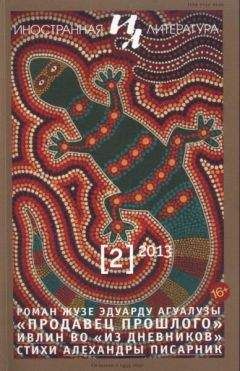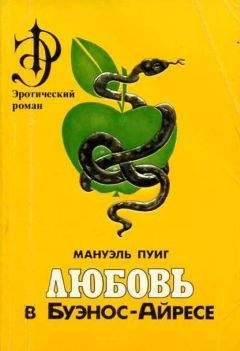А они бесспорно важны. Достаточно сказать, что библиотека написанного о поэтессе на нескольких языках уже давно и во много раз превысила объемом сочиненное ею самой, хотя и этого, последнего, было не так мало: примерно за 15 лет печатного существования — десятки и десятки журнальных эссе, статей и рецензий, переводы с немецкого, итальянского и французского от Гёльдерлина и Мишо до Квазимодо и Бонфуа, девять книг собственной поэзии и поэтической прозы, еще несколько томов, включая дневники и эпистолярий, появились посмертно… Не здесь и не сейчас разбираться во всей посвященной Писарник «вторичной» литературе (в ней много тонкого и нужного), за неимением места ограничусь одним: совершенно ясно, что ее наследие и образ не отпускают читателей разных стран поколение за поколением. Хотя ни о чем подобном автору даже не мечталось.
Дело в том — и это, вероятно, самая важная вещь, которую стоит знать услышавшему об аргентинской поэтессе впервые, — что собственная личность, роль себя как писателя, более того, сами отношения со словом ежедневно и еженощно (а Писарник с детских лет страдала бессонницей) оставались для нее под вопросом и переживались как мука. Лучше других об этом сказал один из ее первых французских переводчиков, сам тонкий поэт и замечательный испанист Жак Ансе, перефразируя евангельскую формулу: «В начале была рана». Долгие годы знавший Писарник и высоко ценимый ею аргентинский лирик-сюрреалист Энрике Молина пишет о ее «зачарованности утраченным детством». Я бы добавил: утраченным и при этом не состоявшимся в реальности, не пережитым наяву, а потому так и не уходившим из воображения, — отсюда у поэтессы символика недоступного сада и другого берега, но и, конечно, «последней чистоты» (цитата из «Лета в аду» Артюра Рембо, который сходно переживал собственное детство). Многоязыкого писателя и переводчика, номада из культуры в культуру Альберто Мангеля, познакомившегося с Писарник в Буэнос-Айресе в 1967 году (это для задуманной им антологии на шекспировскую тему «У кладбища жил некий человек» поэтесса написала стихотворение в прозе «Дождь и покойники», приводимое в нашей подборке), поразил ее детский облик и детская манера говорить, а ведь ей было за тридцать и на десять лет больше, чем ему. И вот — ребенок ребенком: не зря у нее, на всю ее безжалостно перекрученную жизнь, остался почерк отличницы-первоклашки.
Писала и перемарывала она обычно не за столом, а на небольшой классной доске рядом. Не уверенная никогда и ни в чем, правила подолгу и многократно, только потом «муравьиными» буковками (выражение того же Молины) переносила несколько строчек — десять-двенадцать для нее уже непомерно много! — в записную книжку. Свой основной жанр она, со всеми оговорками по поводу себя как автора, называла математическим термином «аппроксимации», то есть приближения через сокращение. Над столом и доской была прикреплена цитата из Антонена Арто: «Для начала стоило бы захотеть жить».
Дважды переименованная Алехандра (она прожила и осталась в памяти под этим придуманным ею самой в юности именем, а родовую фамилию отцу сменили еще раньше, по прибытии в Аргентину) не выносила собственного тела. Имени и тела — опоры и метафоры личности, нашего становящегося «я» (не зря ребенок ни имени, ни тела не знает). Писарник боялась любого своего воплощения и терзала тело как могла — голоданием, курением, алкоголем, амфетамином. Тело отвечало бессонницей и астмой, лишавшими пространства (воздуха), уничтожавшими время (смену дня и ночи). Консультировавший ее с двадцатилетнего возраста буэнос-айресский психоаналитик Леон Остров подчеркивал не физическое, а душевное происхождение ее болезней. Зеркала, двойники, маски — сквозные образы в стихах и прозе Писарник — ее всю жизнь тянули и отталкивали разом.
Суть здесь, конечно, не в физике, даже не в психике — и то и другое, «здоровы» они или «больны», поэт превращает в поэзию, чем нам и важен. Но точно так же истребительно поэт Писарник относилась к собственному слову, больше того — к речи вообще. Она с детства заикалась, и потому выговор у нее был особенный. Ее подруга, а позднее — издательница и комментатор ее переписки, аргентинский поэт и филолог Ивонна Борделуа вспоминала: «Алехандра говорила буквально с другой стороны языка <…>. Присутствовать при ее разговоре было все равно что ехать в поезде, где каждый вагон движется со своей скоростью, окна непредсказуемо мигают, а скрытый и неведомый локомотив уносит тебя, как беззвучный ночной ураган. Гласные растягивались, пошатывались, а все вместе звучало как что-то непоправимо иноязычное». Опять-таки суть не в физике. О румыно-французском поэте Герасиме Люка (Писарник вполне могла встречать его где-нибудь в Париже начала шестидесятых) Жиль Делез сказал, что он превращает заикание «из дефекта речи в аффект языка». Самоистребительное недоверие к слову, никогда не дающемуся само собой, всегда одолеваемому с болезненным трудом (заикание!), было для Писарник единственно допустимой формой его существования и поэтической значимости.
Напомню более общий контекст: Писарник сложилась и работала в пору, для которой Натали Саррот нашла крылатую формулу — «эра подозрения» (поэтесса, думаю, читала это ее эссе 1950 года). Под такое подозрение к середине века, после всего им только что пережитого, в литературе было поставлено само право на авторитетное высказывание. Что-то значить и быть обращенным к другим для поэта сознательного и совестливого — в испанском, как и во французском, это одна вокабула — могло только слово, проверенное на себе и утвержденное собственной жизнью. Сюрреалистическая по образности, лирика Писарник была глубоко экзистенциальной по истокам. Это было слово, непрестанно и беспощадно испытующее свои возможности, границы и права. А потому навсегда недостижимое, обреченное, цитирую Писарник, «допытываться с помощью написанного, почему главное не поддается словам». Пытка как способ существования и способ письма. Слово, стремящееся не быть всего лишь словом. Еще короче: стремящееся не быть. Его единственная (и та самая, «последняя») цель — немота: «…молчание как та сказочная маленькая хижина, которую находят в лесу заблудившиеся дети». Автодиагноз из дневника: «Потеряю разум, если скажу. Потеряю жизнь, если смолчу». И еще оттуда же: «Самая большая тайна моей жизни: почему я не кончаю с собой».
В стихах и прозе Писарник несколько раз мелькает естественная для испанского языка, но, кажется, непереводимая на русский анаграмма, в которую, пожалуй, могла бы уложиться (при жестком минимализме поэтессы) вся ее жизнь: sentido (смысл, направление) /destino (судьба, удел). Если не найти первого, не нужно и второго. Но вот этот невидимый зазор между ними, пропуск, косая черта или тире и есть тот клочок внефизического пространства, где — вопреки абсолютной невероятности — существует и становится возможным слово поэта: «Место отсутствия // нитка ничтожной связи» (и все-таки — место! и все-таки — связь!).