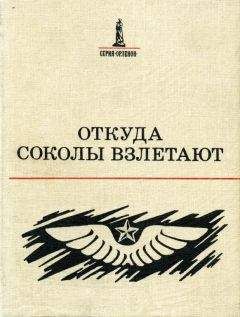— Прасковья! Ты если взялась, так следи за своей ордой, житья от нее нету, пакостит. Уйми, пока до большого греха не дошло…
А когда им по чужим огородам лазить было, если работу спознали раньше, чем детство, детства они и не видели. Старшенький Колька и в школу-то пошел лишь на одиннадцатом году, бегая подпаском за коровами с кнутом во время летних каникул, за Зиной числилась вся уборка по дому и стирка, Мишка с бабушкой ходил по дворам на поденщину, тоже какая ни на есть, а помощь и, главное, не беспризорщина.
Подрядилась Прасковья Егоровна по весне за сытный обед у местного богатея остричь десятка полтора овец перед пуском в табун.
— К обеду не управишься — имей в виду, отдельного застолья для тебя с твоим коммуненком собирать не буду, — предупредила хозяйка, — не велики господа.
— Одна управлялась, а с подручным уж как-нибудь…
— Не иначе слово знает, — ходили по этому поводу слухи о бабке Суриной. Тут с овцой своей, с этой дикошарой тварью не можешь пособиться, она с чужой ладит, овцы сами под ножницы ложатся, как собаки.
Ладила она со всякой домашней тварью просто, а почему ладила, объясняла еще проще:
— Понимай животное, и животное поймет тебя.
Стрижку начинала со старок и тут же прямо в деннике. Присаживалась на нижнюю жердочку прясла и ждала, когда которая-то из них первой вспомнит ножницы, клочковатый ворох снятой зимнины, долгожданную легкость вспомнит и подойдет сама.
— Мась, мась, мась, — начинали поскрипывать пружинистые ножницы и падать охапками бурая шерсть. — А ты, помощничек золотой, подбирай, чтобы другие не растаскивали. Да потихохоньку подбирай, не резко.
— А обедать скоро?
— Скоро, скоро. Потерпи, ты уж большенький.
Потерпи, а как терпеть, если хозяйский сынок, усевшись на чурбак посреди двора, выщипывает мякиш из огромного куска хлеба, смазанного свежим маслом и густо посыпанного сахаром. Выщипывает и бросает курам на драку, показывая то язык, то кукиш изнывающему работнику.
— Баб… Ну давай уйдем отсюда… Уйдем…
— А ты не смотри.
Но Мишка не мог не смотреть. И терпеть больше не мог. Открыл воротца денника, кышнул — и стригите вы, буржуи проклятые, своих овец сами.
И в третий раз осиротели Галкины ребятишки: умер Иван Суров. И дядя, и приемный отец. Страшно умер. Не дай и не приведи никому так умирать, захлебываясь собственной кровью, хлынувшей горлом из легких, съеденных за какой-то месяц прогрессирующим туберкулезом.
И оставил на полуголодное прозябание Иван Федорович Суров целую коммуну из восьми душ нетрудоспособных: мать-старуху, бобылку Дуню с ее пожизненной надсадой, троих приемышей и жену Анну с двумя грудными погодками.
— Теперь вся надежа на Кольку, — собрала семейный совет баба Паня.
Надежа на Кольку, а надежа эта самодельные тетрадки из амбарных книг в матерчатую сумку засовывала, «Задачник по арифметике» и «Русский язык» для четвертого класса, завтра уроки по ним в Тарасовском особняке, отданном под школу, которую назвали Тарасовской в отличие от бывшей церковной.
— Да кто ж насмелится принять его на работу четырнадцатилетнего-то? Теперь ни права, ни закона такого нет.
— Добавим возрасту, на обман пойдем. И пойдешь, куда денешься.
— Ему не возрасту — росту добавить бы, а такому хоть бороду приклей, не поверят.
О приеме работника в аршин с кепкой и слышать не хотели.
— Я вообще-то сидел уже в тюрьме, — усмехнулся кадровик, возвращая заявление не поступающему, а его бабушке, — но то была царская тюрьма для политических, и в советскую для уголовных вы меня не толкайте. И-и н-не н-надо меня умолять и упрашивать. Все. Крест. Кре-ест, сказано вам.
— Не кисни, Коля. Свет клином еще ни на ком не сходился, — успокаивала бабка чуть ли не плачущего внука. — Не на ту нарвался тюремщик, неизвестно еще какой, теперь все норовят выставить себя борцами. Борец. Посмотрим, кто кого переборет. Если уж Суриха что задумала — хоть камни с неба вались, сделает.
Сходила к троюродному племяннику Добрухину.
— Ты с какого года партиец? С девятнадцатого? И фамилия у тебя — Добрухин? Вот и оправдай своей звание и фамилию, помоги парню устроиться на работу. Ведуновых Полину с Александром пристегни к себе, они тоже из первых комсомольцев прииска, да все вместе и ступайте к ихнему секретарю.
Добились своего. Приняли Колю Галкина.
После первой же смены с полегчавшей заботой на сердце уступила бабушка старшему внуку свое место за столом.
— Отныне ты, Коля, главный хозяин тут.
И решения по жалобам на Мишку откладывала до возвращения хозяина с работы.
— Казилов прибегал…
— Какой Казилов?
— Ну, не старатель же. У какого мы овец в позапрошлом годе стригли да не достригли.
— И зачем он прибегал?
— Зачем… Жалиться. Говорит, люди видели, как наш вояка с буржуями все ведра у него на молоканке[10] раскурочил, дужки повынимал. Только, говорит, новые подойники промыл да на колья сушить развесил — и как псу под хвост денежки выбросил, не под мышками ж их носить теперь.
— Пусть не врет, я взамен моток медной проволоки оставил.
— А дужки тебе на кой ляд понадобились?
Сталистые дужки понадобились на оковку самодельных деревянных коньков, излаженных для всех мальчишек своего класса братовым инструментом. И пересекали приисковые мальчишки приисковый пруд, еле подернутый пленкой льда. И когда в образовавшейся крохотной полынье закачалась обреченным утиным подранком всплывшая Мишкина латаная шапчонка, вмиг опустел каток: ни судей, ни соперников.
Коньки подвели, коньки же и выручили. Целиком из металла, не одного пацана утянули они на дно, а эти деревяшки даже помогали держаться на плаву. И почти до самого того противоположного пологого берега ломал Мишка грудью хрусткий лед, пытаясь выбраться на него.
И сосулька сосулькой заявился он, конечно же, не домой, к тете Дуне сначала, и на ее допросы лишь кивал, головой со смерзшимися волосами «ага» или «нет».
— Если уж Кольку у крупозки отстояла, то тебе и кашлянуть не дам.
Раздела донага, приговаривая: «Не стесняйся, не стесняйся, некого стесняться», закутала в свой зипунишко из домотканого сукна, сгоношила самовар, запарила травки, попоила, затолкала в печь.
— Жарься, пока не скажу «вылазь».
— Но-ка, выкладывай, водолаз, как тебя угораздило? — басовито строжил вечером старший брат младшего.
— Как… Рано разбегаться перестал. Надо было, пока лед не затрещит. Завтра все одно проскочу.
— Я тебе проскочу опояской вот…