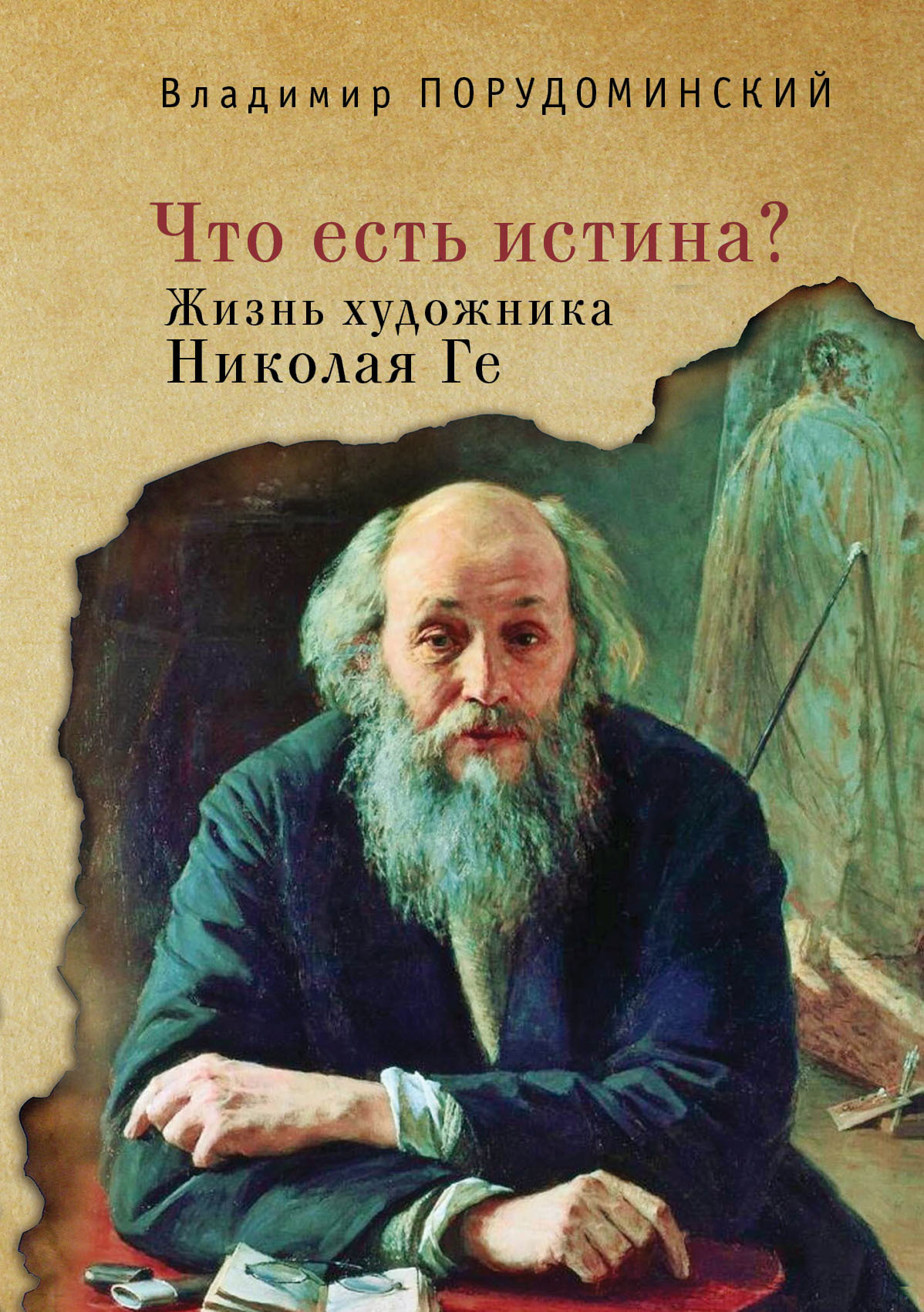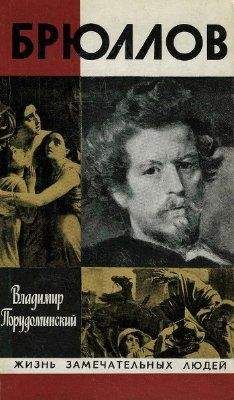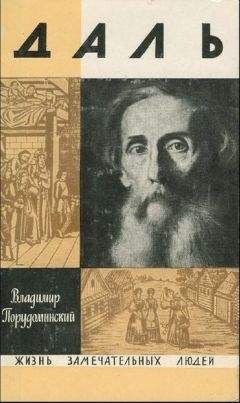и злился в день приезда Репина. Может быть, и позавидовал своему гостю: вот Репину ясно, что надо делать, – замыслам конца нет, творит, и все с успехом, а он, Ге, мучается, сомневается, седой уже, а никак себя не найдет. Замкнулся – ну и творите в своем Петербурге, мне здесь и без живописи хорошо.
Все может быть.
Не в том беда Репина, что он припомнил частности, а в том, что не заметил главного. Он приехал на хутор Плиски, насыщенный мнениями петербургских знакомых. Оттого за разговорами о ненужности искусства позабыл про «Милосердие», про портреты же не спросил. Оттого в реплике позировавшего Ге: «Общее, общее скорей давайте; ведь общее – это бог!» – услышал не раздумья об искусстве (как некогда, когда Ге давал ему советы насчет «Бурлаков»), а только торопливость, желание поскорей закончить. Оттого словам Анны Петровны, что Николай Николаевич задыхается без «сферы искусства», придал решающее значение, а мысли Ге о мужиках, о низкой кулыуре, о болтовне на петербургской ярмарке принял как чудачество.
Анна Петровна сказала:
– Ему необходимо общество и сфера искусства. Вы не слушайте его; ведь он рвется к художникам. Я так рада, что вы заехали. Ах, если б почаще заезжали к нам художники!.. А то ведь, можете представить, – мужики, поденщики, да он еще л ю б и т с ними растабаривать.
Это Репин взял как основное, потому что с этим и приехал: Ге на хуторе – философ без идей, оратор без трибуны, художник без сферы искусства.
А то, что ему Ге сказал, Репин пересказал как бы мимоходом, иронически, вперемежку с анекдотом про еврея-арендатора.
Но Ге ему сказал:
– А почему же я теперь живу здесь?.. И ни на что не променяю я этого уголка. Вот где знакомство с народом! А то они там, сидя в кабинете, и понятия о нем не имеют. Ведь с мужиком надо долго, очень долго говорить и объяснять ему – он поймет все. Я л ю бл ю с н и м и р а ссуж – дать…
Спасибо Репину, что он принес нам эти слова Ге. Мы ведь имеем право оценкам Анны Петровны не поверить. Слова произнесены – мы имеем право прямо им поверить. Самому Ге поверить.
Ведь эти слова опять-таки по-новому связывают воедино и мысли Ге об искусстве, и его бегство на хутор, и «Милосердие», и его приход к Толстому, и его позднейшую живопись.
Эти слова – еще один ключик к загадке хуторского затворничества Ге. И князь Кропоткин, со своим настроением прочитавший рассказ Репина, в чем-то важном, должно быть, прав.
Я просыпаюсь.
Я объят
Открывшимся.
Я на учете.
Я на земле, где вы живете…
Б. Пастернак
Ге рассказывает:
«В 1882 году случайно попалось мне слово великого писателя Л. Н. Толстого о «переписи» в Москве. Я прочел его в одной из газет. Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в них несчастных, пишет: «Наша нелюбовь к низшим – причина их плохого состояния…»
Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему.
Приехал, купил холст, краски – еду: не застал его дома. Хожу три часа по всем переулкам, чтобы встретить, – не встречаю. Слуга (слуги всегдашние мои друзья), видя мое желание, говорит: «Приходите завтра в 11 часов, наверно, он дома». Прихожу. Увидел, обнял, расцеловал. «Л. Н., приехал работать, что хотите – вот ваша дочь, хотите, напишу портрет?» – «Нет, уж коли так, то напишите жену». Я написал. Но с этой минуты я все понял, я безгранично полюбил этого человека, он мне все открыл. Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь, что я хранил целую жизнь, – он мне это назвал, а главное, он любил то же самое.
Месяц я видел его каждый день. Я видел множество лиц, к нему приходивших… Я стал его другом. Все стало мне ясно».
Стасов особо выделил этот отрывок из автобиографических набросков Ге и озаглавил: «Знакомство с Толстым».
Софья Андреевна Толстая в марте 1882 года писала сестре, Татьяне Андреевне, что «знаменитый художник Ге (Тайная вечеря на полу, говорили про него, что он нигилист)… приехал познакомиться с Левочкой».
Дети Толстого, Татьяна Львовна и Илья Львович, также отмечают в своих воспоминаниях, что первая встреча Ге с отцом произошла в марте 1882 года. А Сергей Львович еще и подчеркивает: «Он раньше с отцом знаком не был».
Но ведь самое-то интересное, что б ы л.
В отрывке, приведенном Стасовым, не сказано – «еду знакомиться»; сказано – еду «обнять», «работать ему».
Они познакомились на двадцать один год раньше, в Италии, в Риме. Толстой сошелся там с русскими художниками, обедал с ними в дешевом ресторане, ходил по мастерским. Свидание с Ге было, видимо, случайным и не долгим. Вряд ли между ними завязался большой разговор. Каждый только начинал свой путь. Дороги встретились, слились через двадцать один год.
В том же 1861 году Толстой ездил в Лондон, к Герцену. Они друг другу понравились, но оценил Герцена по-настоящему Толстой уже позже. Про встречу с Герценом он вспоминал:
«Живой, отзывчивый, умный, интересный Герцен сразу заговорил со мною так, как будто мы давно знакомы, и сразу заинтересовал меня своей личностью. Я ни у кого потом не встречал такого соединения глубины и блеска мыслей. Он сейчас же повел меня почему-то не к себе, а в какой-то соседний ресторан сомнительного достоинства. Помню, меня это даже несколько шокировало. Я был в то время большим франтом, носил цилиндр, пальмерстон и пр. А Герцен был даже не в шляпе, а в какой-то плоской фуражке. К нам тут же подошли какие-то польские деятели…»
Ге якшался в Италии с этими самыми польскими деятелями и с русскими деятелями, близкими Герцену; он мечтал о Герцене. Он никогда не задумывался, в какого достоинства ресторане насыщает свой желудок; никогда не носил цилиндра и пальмерстона, а пальто, приобретенное в Италии, таскал в Петербурге, в