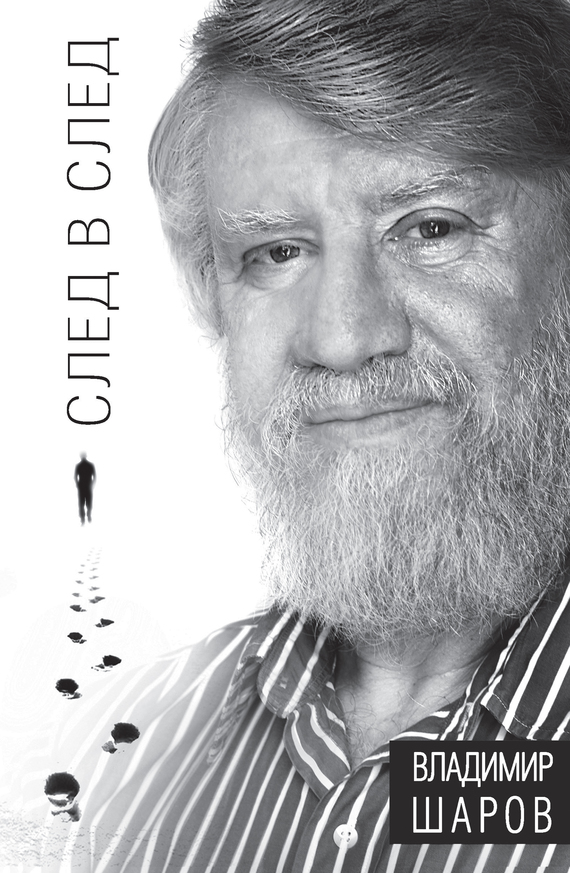детали того времени, все, что они тогда говорили, даже тон, которым говорили. И вот теперь, через полтора года после конца войны, его память все настойчивее, все требовательнее будила память обвиняемых, она была их лоцманом, их поводырем, и, когда памяти Кострюкова, наконец, удалось достучаться до их памяти, они уже вместе, теперь по-настоящему вместе, стали кропотливо, ничего не выбрасывая и не теряя, выкладывать мозаику своего предательства.
Много раз, встречая Климова, Кострюкова и Строгова во время дознания, я видел, как все отчетливее проступает на их лицах понимание вины, как тяжесть ее сгибает их плечи. Очная ставка между всеми ними была кульминацией следствия. Встретившись лицом к лицу с теми, с кем тебя повязала совместная измена, каждый, как в зеркале, увидел в другом самого себя, увидел всю глубину своего падения и понял то, что так трудно и долго пытался объяснить им Константин Николаевич. Понял, что в душе он изменил в первые же дни войны, что оставался предателем все долгие четыре года, что остался им и после войны и что только случайное стечение обстоятельств не дало ему возможности нанести прямой ущерб Родине.
Дважды я был на допросах Константином Николаевичем К.Н. Кострюкова. Канва их была намечена еще в признании К.Н. Кострюкова, и, несмотря на то, что я ее знал, допросы поразили меня. На моих глазах шла смертельная схватка, поединок кровных врагов. Константин Николаевич не давал Кострюкову ни секунды передышки, ни малейшей возможности оправдаться, уйти от ответственности. Я бы даже сказал, что Константин Николаевич не допрашивал Кострюкова, а пытал его, конечно, не в прямом значении слова.
На этих допросах из страха, ненависти, подлости и отвращения рождалась правда: семья Ступиных-Кострюковых, его отец-кулак, их хозяйство, ссылка в Сибирь, бегство из эшелона, усыновление, смена фамилии, переезд в Москву, фронт, окружение, допросы, послевоенная жизнь – все с первых воспоминаний, с самого начала было проникнуто ложью и изменой. Передо мной предстала вся жизнь Кострюкова от детских страхов и обид через школу, фронт, Лидию до дня ареста. Я видел, что питало его предательство, видел, как оно зрело, росло в нем, как постепенно заполнило, заразило его всего. В «Известиях» я писал об этих допросах, что работа следователя сродни труду писателя: только им дан талант понимания человека, и если писателя мы любовно называем «инженером человеческих душ», то следователь имеет не меньше прав на это почетное звание.
После ареста лейтенанта МГБ Пастухова как бы по инерции был взят еще ряд сотрудников органов, пытавшихся выручить его и прикрыть дело. Но вскоре я стал замечать, что кто-то тормозит расследование, тем самым хочет дискредитировать Константина Николаевича. Теперь он на каждом шагу сталкивался с бюрократическими рогатками, не мог получить даже новых ордеров на арест. Все это косвенно отразилось и на мне, и на «Известиях». Главный по неделе не мог дозвониться до Лаврентия Павловича, заметно холоднее стал со мной и подполковник Петров. Хотя, может, это только казалось, и просто сама тема, сделавшая меня знаменитым, постепенно ускользала из рук.
3а последний год о Кострюкове вышло два романа и несколько повестей, написанных нашими ведущими прозаиками. Шаг за шагом я уходил в тень, даже в газетах статьи о Косте все чаще были подписаны не моей фамилией. Тогда же, в начале сорок девятого года, мне предложили очень заманчивое назначение – спецкором «Известий» в Прагу, город, который я успел полюбить на всю жизнь. Формально это было повышение, но я не обманывался. Две недели размышлял, а потом, как ни жалко было расстаться с Костей, согласился; отставка все равно была неизбежна, а эта хоть была почетная.
В Праге я проработал до пятьдесят пятого года. Естественно, и там по мере возможности следил за делом своего однополчанина Кости Кострюкова, делом, стоящим у истоков моей журналистской карьеры. Из Москвы доходили самые разные, порой совершенно фантастические слухи. Так, говорили, что сам Берия не раз пытался прикрыть дело, что на одном из заседаний ЦК он, готовя почву для устранения Кострюкова, заявил, что тяжелейшее следствие полностью подорвало его здоровье и врачи не ручаются за Костину жизнь. Однако товарищ Сталин ему резко возразил:
«Такие люди, как Кострюков, для нас чрезвычайно важны, они наша опора. Мы должны беречь их и заботиться об их здоровье. Если товарищ Кострюков так плох, как это говорит товарищ Берия, надо отправить его отдыхать в Крым».
Берии пришлось отступить, Кострюков провел больше месяца в Ялте и с новыми силами продолжил работу.
Через год по предложению Берии ЦК вновь обсуждал дело Кострюкова. Берия утверждал, что аресты, проведенные Кострюковым среди сотрудников МГБ, так же, как вообще вся его деятельность, дискредитируют органы, что сам Кострюков предатель и враг, что следствие, когда возглавлял его еще Кононов, показало это со всей ясностью. Берия требовал отставить Кострюкова от расследования и немедленно передать его дело в суд. Однако Иосиф Виссарионович и на этот раз защитил Кострюкова. Берии он сказал:
«Мы должны отличать Кострюкова-предателя от Кострюкова – советского человека. Для этого нужна зоркость, которой товарищу Берии иногда не хватает. Здесь товарищу Берии надо учиться у народа. Народ никогда не путал Кострюкова-предателя и Кострюкова-героя».
После этого заседания я все чаще и чаще слышал, что разоблачения, сделанные Кострюковым, подорвали доверие товарища Сталина к Берии и к руководимому им Министерству государственной безопасности и что ему в преемники он готовит самого Константина Николаевича. Эти слухи становились все настойчивее, пока ненастным мартовским утром я, раскрыв только что доставленный из Москвы номер «Известий», не увидел на первой странице в траурной рамке портрет моего дорогого друга, однополчанина Константина Николаевича Кострюкова.
Умер Костя Кострюков, умер, как говорилось в некрологе, на боевом посту от кровоизлияния в мозг. У многих из нас возникло тогда подозрение, но фактов ни у кого не было. И только в 1953 году, когда Берия, многие годы возглавлявший МГБ, был разоблачен как агент английской разведки и расстрелян, мы поняли, кто убил Костю. Да, Константин Николаевич Кострюков погиб как герой.
Семейная революция
Прошел год после смерти отца, прежде чем я сумел выкроить время и начать разборку нашего архива. Было лето, но погода стояла холодная, почти каждый день шел дождь. Мои были на даче и должны были вернуться только через неделю. Я уж и забыл, когда последний раз оставался один в нашей большой, почти коммунальной по числу душ квартире.
Начал я с отца. Целыми днями, смотрел письма, фотографии, дореволюционные справки и дипломы, газетные вырезки, мандаты. Фотографии особенно занимали меня. Их было много, отец любил сниматься и на фотокарточках всегда выглядел веселым и здоровым. В жизни, к сожалению, так было нечасто.
Вот самая ранняя фотография отца. Ему год или чуть больше. Мать, прямая и высокая, держит его на руках; сзади, обняв ее за плечи, стоит мой дед,