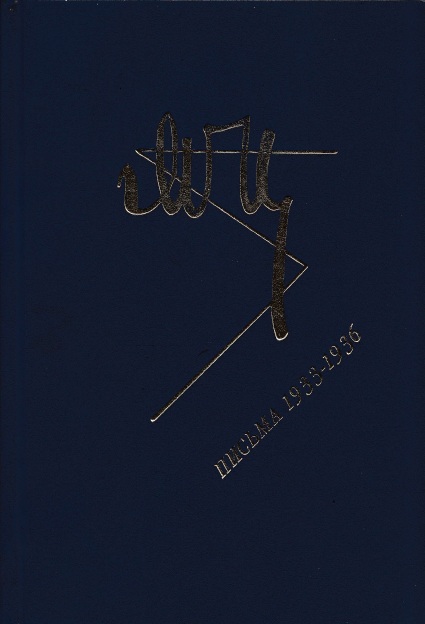поэта — прозаика, а из прозаика — покойника.
Вам (нам!) дано в руки что-то, чего мы не вправе ни выронить, ни переложить в другие руки (которых — нет).
Ведь: чем меньше пишешь, тем меньше хочется, между тобой и столом встает уже вся невозможность (как между тобой и любовью, из которой ты вышел).
Конечно, есть пресыщение.
Но есть и истощение — от отвычки.
Не отрешайтесь, не отрекайтесь, вспомните Ахматову:
А если я умру, то кто же
Мои стихи напишет Вам? [637] —
не Вам и даже не всем, а просто: кто — мои стихи…
Никто. Никогда. Это невозвратно. Вы обкрадываете Лирику <нрзб.>, безглагольную, как всякое до, беспомощную, не сущую без нас, поэтов.
И именно потому, что нас мало, мы не вправе…
Это меня беспокоит до тоски — мысль о возможности такого рядом, почти со мной, ибо я давно перестала делить стихи на свои и чужие, поэтов — на «тебя» и «меня».
Я не знаю авторства <…>
Впервые — Новый мир. 1969. № 4. С. 207 (публ. А С. Эфрон). СС-7. С. 466. Печ. по СС-7.
Clamart (Seine)
10, Rue Lazare Carnot
12-го мая 1934 г.
Конечно — старого [638], во мне нового ничего, кроме моей поэтической (dichterische) отзывчивости на новое звучание воздуха. За меня бы дорого дали, если бы я существом отзывалась, как дорого дали — за Маяковского и, дорого дав, и то не удержали!
Как я могла родиться — нового?! Я — дважды, как факт и как суть. Неужели Вы думаете, что я могу снизойти до перевода, прибавки тринадцати дней [639] — и ради чего, чтобы оказаться рожденной по ненавистному мне, не-моему календарю, которого тогда и в помине не было, а в моем помине (помине обо мне) и не может быть и не смеет быть!
Да еще в сентябре — вместо октября!
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
Мне и поныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.
(Москва, 1916 г.) [640]
Вот одни из моих самых любимых, самых моих стихов. Кстати, ведь могла: славили, могла: вторили, — нет, — спорили! Оспаривали мою душу, которую получили все и никто. (Все боги и ни одна церковь!)
Кстати, родилась я ровно в полночь с субботы на воскресенье (26-го на 27-е), у меня и об этом есть стихи:
Между воскресеньем и субботой
Я повисла, птица вербная,
На одно крыло — серебряная,
На другое — золотая…
Москва, 1920 г. [641]
Но я приобщила себя субботе, кануну, концу, — невольно, конечно, только сейчас, когда пишу, осознала, как и спор колоколов.
_____
Конечно, Толстого не люблю, т. е. люблю его жизнь и смерть, его одинокую муку, его волчиное сердце, но почти — сочувственно, как grand camarade de malheur [642] — и еще сундук с Наташей Ростовой, и «поцелуйте куклу», и танец, и окно, но это уже — Mignon [643], а не Толстой.
(И неизмеримо больше Толстого люблю — Гёте.)
Достоевский мне в жизни как-то не понадобился, обошлась, но узнаю себя и в Белых Ночах (разве Вы не видите, что все Белые Ночи его мечта, что никакой Вареньки не было, т. е. была — и прошла (мимо), а он этим мимо — жил) и, главное, запомните, — в Катерине Ивановне [644] с шалью и голыми детьми, на французском диалекте. Это я — дома, и в быту, и с детьми, и в Сов<етской> России и в эмиграции, я в той достоверной посудной и мыльной луже, которая есть моя жизнь с 1917 г. и из которой — сужу и грожу.
И — кажется последнее будет вернее всего — я в мире люблю не самое глубокое, а самое высокое, потому русского страдания мне дороже гётевская радость, и русского метания — то уединение. Вообще, не ошибитесь, во мне мало русского (NB! сгоряча ошибаются все), да я и кровно — слишком — смесь: дед с материнской стороны (Александр Данилович Мейн — Meyn) — из остзейских немцев, с сербской прикровью, бабушка (урожд<енная> Бернацкая) — чистая полька, со стороны матери у меня России вовсе нет, а со стороны отца — вся. Так и со мною вышло: то вовсе нет, то — вся. Я и духовно — полукровка.
Толстого и Достоевского люблю, как больших людей, но ни с одним бы не хотела жить, и ни в курган ни на остров их книг не возьму — не взяла же.
Из русских книг больше всего люблю Семейную Хронику и Соборян [645], — два явно-добрых дела. За добрую силу.
Время года? Осень, конечно, с просветами и просторами, со сквозью, с собственными большими шагами, всегда большими, а осенью — гигантскими. Я — рожденный ходок. Кстати, мне недавно вернули из Совр<еменных> Записок мою «Оду пешему ходу», уже набранную, — в последнюю секунду усумнились в понятности «среднему читателю». Хотите — на память? [646]
Стихи Милонова [647] восхитительны; уже от первой строки озноб (со-вдохновения).
Теперь — просьба. Вы можете меня сделать наверняка — счастливой. У меня есть страстная мечта, уже давно: а именно III том трилогии Sigrid Undset «Kristin Lawranstochter» [648] — У меня есть I ч<асть> и II ч<асть> (Der Kranz, Die Frau [649]) но III ч<асти> — Das Kreuz [650] нет.
Sigrid Undset
Kristin Lawranstochter
Band III. Das Kreuz
Herausgegeben von J. Sandmeier.
Rutten und Loening Verlag Frankfurt am Main.
Но книга дорога и просьба нескромна, и, чтобы быть вполне нескромной — в переплете, ибо две другие у меня в переплете сером полотняном, с норвежским сине-красным орнаментом — душу отдать! Это, именно эта III ч<асть>, моя любимая книга в мире. И Вы бы мне ее надписали.
Только — не сделайте та*к, как сделал один здешний молодой поэт: с радостью обещал, каждый раз встречаясь говорил, что выписал вот-вот придет, я ждала полгода («…ich bin leicht zu betr*gen» Goethe [651]) <далее на полях:> и наконец он признался, что никогда и не заказывал [652]. Правда низость? (дважды).
Теперь — Вам — вопрос: что из моих вещей у