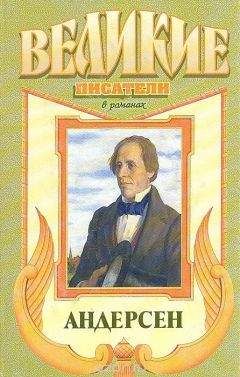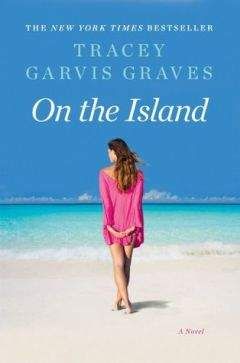Отчим не вмешивался в его дела, почти не ворчал, что он ничему не учится, а шабалдает по улицам. Отчим был счастлив Марией, которая сразу ему сказала:
— Сына моего никогда не ругай.
— Даже за дело?
— Даже за дело. Он нежный и обижается на слова.
— Я тоже обижаюсь на слова.
— Это мой единственный сын. Я люблю его больше своей жизни. — В её словах было горькая строгость, которой нельзя было возразить.
— Будь по твоему, жена, — сказал новый муж и слово своё сдержал, порой, с любопытством думая: а что может получиться из маленького Андерсена, неспособного ни к какому делу? Ну, что в самом деле?
Мальчик вернулся домой и всё пел, и пел, и пел, — точно, если бы замолчал, то голос навеки покинул бы его. Он боялся отпустить его от себя, вёл точно на поводке, а быть может, голос вёл его за собой, каким-то таинственным путём узнав и дорогу к дому, и мать Андерсена и отчима... Он, как маленькая серебряная паутинка, высвечивался иногда в воздухе, как бы давая мальчику понять — что он вещественен, что он — отдельное живое существо — со своим дыханием, характером, биографией — он может исчезнуть навсегда в любой момент и тогда уж никакими мольбами его не вернуть...
Но с ним невозможно уже было расстаться...
— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, — мальчик вновь и вновь пробовал его, как бы делая его по своим размерам, примеряя его, как примеряют одежду... Ах, какой чистый был этот голос — ниточка со звёзд, ничейный подарок, точно рыбки, которых он держал в руках, подарили ему этот голос за то, что мальчик отпустил их в родную комнату — реку Оденсе.
— Да ты запел, — сказал отчим. — Ну, что же, пой на радость матери...
— А где она?
— Должна уже вернуться.
— Я пойду её встречу!
Мальчик не мог сейчас оставаться в комнате, такой маленькой, узкой, точно эта комната была как раз только для него, а для голоса она была совсем мала, и ему было душно в этом доме, где не хватало места людям, но хватало места народившемуся голосу, не голоску, а именно голосу.
Новорождённый на улице почувствовал себя лучше, здесь свободней дышалось, и мальчик пел.
Ему нравилось жить в этом теле, именуемом Андерсеном, мальчишка был хорошим для него домом. В нём было тепло и ласково, а горло было именно таким, каким и нужно...
— Эй, Андерсен, ты никак поёшь? — спросила знакомая девочка.
— Пою! — гордо ответил он.
— А что ты умеешь делать? — усмешливо спросила знакомая.
— Я умею петь, разве этого мало?
— Из голоса платья не сошьёшь!
— Я сошью из него второе небо, с облаками и птицами...
— Ха-ха-ха, чудак человек! Надо бы, чтоб отчим тебе уши надрал, тогда станешь достойным города Оденсе!
Оденсе только и ждёт, чтобы он стал башмачником!
А он только улыбался. Точнее — голос улыбался, и Андерсену передавалась его улыбка. Как бы не так! Будет он вам башмачником! Он будет актёром! И все Оденсе придёт слушать его арии!
— Мама! — закричал он на другой конец города, хотя мать показалась в конце улицы.
— Что?
— У меня появился голос.
— Кто тебе его дал?
Он на миг задумался и сказал:
—-Река! Мне дала его река Оденсе! Рыбки хотели петь, но не могли. И своё желание передали мне. Вот я и пою!
«Лучше бы ты научился делать деревянные башмаки», — хотела сказать мать, но ничего не сказала. Но голос почувствовал то, что она хотела сказать. Он свернулся клубочком и спрятался.
Новый муж Марии ни в чём не ограничивал пасынка.
Когда Андерсену удавалось достать лоскутков для своих кукол — какая это была радость! Куклы хлопали в ладоши, радуясь новой одежде. Их живые яркие глаза прямо светились и с благодарностью смотрели на маленького портного. А тот радовался своей портняжной работе, и ножницы смеялись в его руках от радости разрезать цветные лоскутки. Да, наряды вышли на славу! И куклы в новых нарядах становились новее и веселей.
— Молодец! — хвалила мать. — Умение шить пригодится тебе в жизни.
— Я буду артистом! — гордо говорил мальчуган.
— Будь портным! Если ты любишь меня — станешь шить людям одежду и не умрёшь с голоду.
— Но комедии лучше, чем портняжная работа.
— Не нужно нашей семье комедиантов. Ты должен жить на одном месте, а не шляться по городам через снег и дождь, чтобы заработать на кусок хлеба... Поступи в ученики к Стегману, раз ты так любишь шить. Он обшивает лучших людей Оденсе! Как бы я гордилась тобой! Не хочешь стать башмачником — ладно, но стань портным. У него полно подмастерьев, Шекспиром не прокормишься.
— Нет, мама, это не для меня.
— У него много подмастерьев твоего возраста. Ты найдёшь среди них друга.
— Мои друзья — мои куклы.
— Но ты ведь не сможешь всю жизнь играть с куклами. Твой возраст требует обучения.
— Я учусь у моих кукол и у книг.
— Нужна профессия. Ну, что, мне на колени перед тобой встать?
— Нет. — Он заплакал.
Материнское сердце сжалось:
— Ты почти взрослый и плачешь! Ну, что мне с тобой делать, на тебя уже показывают пальцами, ты ничему не учишься, ничего не делаешь. А если я заболею, кому ты будешь нужен?
— Слушайся мать, — говорил отчим. — Даже мне её жалко.
— Я не хочу учиться на портного.
— Учись на башмачника.
— Я не хочу учиться на башмачника. Я хочу учиться на копенгагенца!
Отчим рассмеялся в полную силу.
— На копенгагенца, на Копенгагенца, — повторял он, — возьми и меня учиться вместе!
— Ну, что мне делать с тобой? Чувствую — не миновать нам беды!
А мальчик ничего не ответил. Он взял свою любимую куклу и вышел на двор. Там смеялось солнце, и ему показалось, что оно смеётся над ним.
Жить стало легче, новая семья переехала, теперь у них был огородец, узкий, как волосинка. Дорожка спускалась к Оденсе около монастырской мельницы. Шлюзы опустошали русло, тогда можно было брать живую рыбёшку руками, она оставалась в лужицах. Мать здесь полоскала, а сын всё время пел то, что приходило в голову. Это были громкие песни, говорившие о радости жизни. Мать полоскала бельё на большом камне, а камней было несколько, и Андерсену казалось, что камни его слушают, ведь одним им скучно, к знакомым рыбёшкам они привыкли, а песни каждый раз были разные...
Услышав, что империя по имени Китай находится как раз под ними, Андерсен мечтал, что принц из Китая услышит его песни, прокопает к нему дорогу и возьмёт его с собой в далёкую страну...