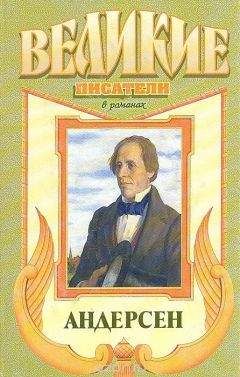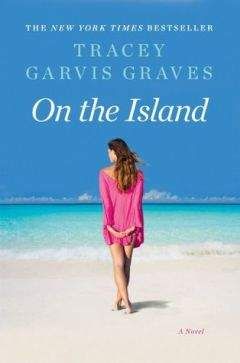— Господи, — молится он, — почему я такой никому не нужный? Сделай меня не таким, как всё, чтобы я гордо проходил мимо унижений.
Пока он молился, он не мог отделаться от чувства, что сейчас его догонят подмастерья, стащат с него одежду, и он станет совсем голым, таким же голым, как небо. И все будут его видеть, и смеяться, и показывать на него пальцем.
—-Глядите, Андерсен голый!
— Проклятый мальчишка, только и знает, что голым ходить!
И Андерсен действительно почувствовал себя голым, совсем голым, и ему стало жутко: ему показалось, что они правы. Правы взрослые и дети!
Пробуждалась его способность воспринимать представляемое столь же реально, как и действительно происходящее. Многочисленные мечты, роившиеся в его голове и не находившие выхода в слова, вдруг стали обретать плотские очертания, и он мог их видеть! А если он их видел, значит, они существуют на самом деле! На самом деле! Всё, что рождается в его голове, существует! Поразительное открытие. В его ушах стояли крики мальчишек с улицы, подмастерьев, девочек, женщин — все они обступили его и кричали:
— Андерсен голый!
— Совсем потерял стыд, безобразный мальчишка!
— У сумасшедшего деда — сумасшедший внучек!
— Плод от дерева далеко не упадёт!
— Сын Марии совсем отбился от рук, его надо отправить в больницу.
— Не в больницу, а в тюрьму, только там место таким гадким мальчишкам.
Он сжимал руками голову, боясь, что его сейчас начнут бить все эти голоса! Он уже чувствовал удары со всех сторон. Почему же не идёт ему на помощь мать, любимая мать! Где отец, неужели в лесу и не прибежит, не спасёт его от этих проклятых бедных людей, вымещающих на нём свою вечную злобу.
Ах, мой милый Андерсен.
Всё прошло, прошло, прошло!
Это над ним зазвучали бубенчики шута Ганса Строу, которого так любила мать. Шут склонялся над ним с улыбкой, а его бубенчики так мило пели знакомую песенку. И каждый бубенец звучал по-своему, радостно оттого, что он видит Андерсена таким ничтожным, жалким, никчёмным.
Да колокольчики просто смеялись над ним, продолжая улыбку своего хозяина.
Ах, мой милый Андерсен.
Всё прошло, прошло, прошло...
То и дело бубенцы пели уже в его голове, а не на голове Ганса Строу.
— Он ничего не умеет делать, кроме как петь и читать стишки, — смеялись бубенцы.
Голова мальчика вдруг задрожала, как у его старой любимой бабушки. И не только голова его, но и вся земля дрожала, сочувствуя его боли.
Бубенчики в последний раз ожили в голове Андерсена, потом опять переселились на голову шута Ганса Строу и побрели себе по пыльной дороге, уводя согнувшегося от смеха клоуна, гордость целого города. Но раз он был гордостью целого города, значит, весь город и смеялся над ним, маленьким Андерсеном, который ничего плохого не сделал людям, а только хотел, чтобы слушали его пение и аплодировали. Разве плохо, что он декламировал Шекспира?
«Почему люди так любят издеваться надо мной? — подумал Андерсен. — Только куклы никогда надо мной не смеются. Лучше друзей, чем игрушки, нет на всём белом свете». Он вспомнил о них, поднялся и пошёл быстрым шагом. Ему хотелось увидеть их, прижаться к их маленьким добрым тельцам, заглянуть в такие живые глаза.
Вся эта фабрика, кичащаяся своей огромностью, не стоит и одной его игрушки, вырезанной отцом, потому что они, его игрушки, — живые, а фабрика — мёртвая!
Игрушки дома ждали его — он сразу это понял. И они знали обо всём, что с ним произошло. Это матери и отцу обо всём нужно рассказывать, а они и так все понимают. Если бы люди хоть чуть-чуть были похожи на игрушки, какой бы счастливой была жизнь!
«Суконная фабрика, суконные люди», — решил он.
Больше не посылали его на суконную фабрику. Вдова Бункефлод просила его почитать: он читал плохо, но голос был приятный, светящийся какой-то... Мальчик склонялся над книгой так низко, будто водил носом по строчкам, и нос был у него такой длинный, словно он читал носом... В его движениях, голосе, мышлении было что-то женственное. Что? — задумывалась вдова Бункефлод. — Что? И вдруг она поняла, когда он стал учиться у неё шить: нежность. Да-да, нежность — вот что... Он был нежен, как девочка, этот странноватый парнишка с длинной гусиной шеей и большим кадыком... Вдова Бункефлод пожила на свете и знала: дети с такой психологией, как у её маленького друга, оказываются совсем неприспособленными к жизни. Но как она могла помочь ему? Разве что немного образовать, ведь знания никогда никому не мешали, как любил говаривать её покойный муж. Она учила мальчика шить, он с радостью овладевал возможностью одеть своих кукол. Вскоре многие из них получили отменный наряд.
— Вот тебе кукла, раз ты так любишь играть, — сказала однажды вдова.
И подала ему замечательную игрушечную барышню, прямо загляденье, что за барышня. Она была прекраснее всех игрушек, сделанных отцом. Хоть рука и была у отца доброй и талантливой к игрушкам, но его куклы не могли сравниться с этим воздушным созданием.
— Спасибо. — Андерсен взял нежный подарок обеими руками, боясь уронить.
Кукла открыла глаза и посмотрела на нового хозяина. Она чуть наклонила голову, пытаясь внимательнее рассмотреть его.
— Я уверена, что вы подружитесь, — проговорила вдова. — Я любила её, надеюсь, и ты полюбишь её.
— О, я полюблю её, полюблю, — страстно сказал одинокий мальчик.
— Давай сошьём ей батистовую юбочку, — сказала щедрая Бункефлод.
Андерсен посмотрел на неё благодарными глазами.
— У меня как раз есть кусок тончайшего батиста, пусть он украсит нашу куклу.
Вскоре милая барышня щеголяла в батистовой юбочке, ах, что это была за чудо-юбочка! Прямо само великолепие! Даже королеве было бы не стыдно показаться в таком одеянии. Хорошо бы такую юбочку сшить Саре, подумал Андерсен о девочке, той, с которой учился в школе, но вспомнил, как она посмеялась над ним, и отказался от своей мысли. Даже вдова Бункефлод залюбовалась одеждой куклы. Право же, не зря.
— Знаешь, — сказала она, — хорошо было бы сделать вот что... — И она быстро перебросила через её плечо узенькую голубую ленточку в виде шарфа.
— Прямо загляденье! — вырвалось у Андерсена.
— Да, не зря мы занимаемся с тобой шитьём.