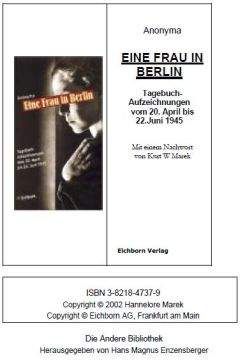Сегодня русская мыла с нами, жена или подруга капитана, полногрудая блондинка. Она мыла художественные шелковые мужские сорочки и пела при этом немецкий шлягер, который у нее есть, пожалуй, на диске граммофона. Герти и моя другая сопрачка, обе присоединились с чистыми голосами. Русская улыбалась нам. Это создавало приветливую атмосферу.
Снаружи - прекрасная сухая погода, солнце и ветер. Надсмотрщики русские спали где-то на территории. Никто не приходил щипать нас и мять. Мы просто стирали. Как-то мы дошли до стихов. Оказалось, что маленькие Герти знает половину учебника для чтения наизусть. И довольно долго звучали прачечной Морике, Эйхендорф, Ленау и Гете. Герти, с опущенными ресницами: «Пройдут мгновения – и ты исчезнешь». И, вздыхала: «Когда-то придет это время». Другая прачка подергивала плечами. Она, будучи в два с половиной раза старше, чем маленькая Герти не задумывалась о смерти. Она постоянно повторяла: «Все образумится».
Усталая я вернулась домой около 20 часов. Там выявились, что больше дома нет. Наша случайная семья лопнула. Господин Паули сделал давно назревающий ультиматум вдове ввиду того что почти уже опустела корзинка с картофелем и потребовал, чтобы меня дольше здесь не было и что не стоит дальше проживать совместно. Ну, мои акции выглядят теперь низкими, с тех пор как Николай растворился в воздухе и пропал из поля зрения. Вдова томилась и мялась, когда она поймала меня в коридоре, чтобы сообщить эту печальную весть мне. С одной стороны, она любит меня. Плохие дни связали нас. С другой стороны, она знает господина Паули дольше, чем меня, определенно чувствует себя ему принадлежащей, связанной для будущего. Она не может рассердить его.
Я: «Слава Богу. Мне никакой кусок здесь больше не лезет в рот. Я радовался, что я питалась у русских всю прошлую неделю».
Конечно, я еще не знаю, на что я должна жить следующую неделю, если работа у русских закончится, то я буду сидеть наверху в мансардной квартире перед пустыми шкафами, потому что того распределения, которое мы должны получать, все еще нет. Я сносила вверх по лестнице мой маленький хлам, мои несколько ложек и лохмотьев; спала, однако, в последний раз в квартире вдовы, где я пишу теперь это. Сироте приходится скитаться. Самое горькое в жизни одинокой женщины состоит в том, что она мешает всем, всякий раз как она попадает в чужую семейную жизнь. Через некоторое время, кто-то не нравится ей, кому-то не нравится она, и, в конце концов, ее выталкивают ради дорогого мира семьи.
Теперь я плачу над этой страницей.
Последний день стирки. С завтрашнего дня мы свободны, мы все. Русские связали свои узелки, всюду было уездное настроение. Внутри под моющим котлом они развели собственноручно огонь; офицер хотел искупаться. Они мылись под открытым небом в ваннах, которые они поставили на стулья; мокрыми полотенцами они натирали себе широкие грудные клетки начисто. Сегодня я покорила очередное сердце: жестами и фразами на немецком мне дали понять, что «он» в меня влюблен и готов, все для меня, если я...
«Он» оказался большим, широким солдатом; с крестьянским лицом с чистыми синими глазами, но уже с седыми висками. Он смотрел на меня застенчиво, когда я осматривала его, подошел ко мне и взял у меня тяжелое ведро и отнес его для меня к мойной кадке. Новый образец! Замечательная идея, до которой еще никто не додумался. И еще большая неожиданность, он говорил по-немецки, совсем без русского акцента: «Завтра мы уходим, далеко прочь отсюда». Я поняла - фольксдойч. Он подтвердил это, да, он с Волги дома, немецкий язык, несколько устаревший, язык. Весь день он проходил вокруг меня, заботился по-отцовски обо мне, смотря на меня приветливыми маленькими глазами. Он не дерзкий, скорее нерешительный, крестьянин. Только настойчивый по-собачьи верный взгляд, в который он пытался вложить все что мог. Пока он поблизости, никакой ругани и мужской толкотни вокруг нашей мойной кадки.
Мы мучились снова добросовестно втроем. Маленькая Герти была крайне довольна сегодня, пела и напевала беспрерывно. Она радуется, потому что знает, что с сегодняшнего дня не будет опасности от этих молодых русских, как тогда на диване. Я соображаю, что у меня уже неделя задержки. Тем не менее, я все равно верю, что усилием своей воли, через мое внутреннее «Нет», я могу уберечь себя от этого.
У счастливой Герти - плохие боли. Мы стремились беречь ее немного, помогали полоскать ей вещи. День был сер и душен, часы тянулись. К вечеру русские подошли и получили свои высушенные вещи. Один из них все сжимал изящный дамский носовой платок с вышитым сердцем и произносил, скручивая вместе восторженные глаза, только одно слово: название населенного пункта "Ландсберг". Еще один Ромео. Наверное, когда-нибудь и Петька в его сибирских лесах когда-нибудь прижмет своими лапищами топор к своему сердце и будет бормотать мое имя с такими же скрученными глазами, если конечно не проклинает меня еще раньше, раскалывая дрова.
В беготне отъезда повар не принес нам сегодня поесть. Мы должны были есть суп из перловки в столовой. Там прошел слух, что согласованную зарплату за прошлую неделю в размере 8 ДМ в день никогда не выплатят. Потом второй, еще более дикий слух: по радио сказали, что орды монголов идут на Берлин, что даже Сталин не смог усмирить эти орды и предоставит им 3 дня на разграбление и поругание, и что всем женщинам советуют прятаться в домах... Чистое безумие, без сомнения. Но женщины обсуждают это и гогочут, царит неразбериха, до тех пор, пока наша переводчица не вмешивается. Сильная баба, тип драгуна. Она говорит нам всем и спорит с нашими подстрекателями, хотя она не имеет приказа на это и была пригнана как работница, как и мы все. Она знает немного русский (она происходит из польской Верхней Силезии) и поэтому переводит. То, что она умеет в отношении языка, и я могу. Однако, я чрезвычайно довольна, что я не выдала себя. Я переводила бы крайне неохотно команды и призывы. Мы тушуемся все перед этой переводчицей. У нее острые глаза и яркий, злобный взгляд. Таким образом, я представляю себе надзирательниц в концлагере.
Вечером в столовой нам объявили увольнение. Наше денежное довольствие, говорят, мы должны спрашивать на следующей неделе в ратуше, в такой-то комнате, в кассе. Может они нам и вправду не заплатят. Поживем - увидим. Я пожала руки маленькой Герти и моей другой сопрачки осторожно, так как у нас у всех стертые ладони, и пожелала им всего хорошего на дорогу. Герти хочет вернуться обратно в Силезию, где живут ее родители. Или жили. Она не знает.
Четверг, 31 мая 1945 года.
Сегодня мое независимое голодное существование началось в квартире под крышей. Я верю, мои обжорства вперед у вдовы происходили из инстинктивного предвидения. Я знала, что это не могло продолжаться бесконечно. Поэтому в меня так много влезало. Теперь этого у меня нет. Такой жесткий переход от благополучия к - почти ничему. У меня нет запасов. До сих пор не было почти никакого распределения. Только хлеб, который мы получаем пунктуально. Для меня 300 граммов в день, 6 серых ржаных булочек, которые я легко съедаю на завтрак. Я могла взять сегодня хлеба 1000 грамма. Сложила крест пальцами как при молитве. Хлеб наш насущный дождь нам днесь. Я отметила 3 дневных нормы на корешках корку. Жира топленого сегодня не было. Сухой картофель и остаток гороховой муки, это мне от вдовы в мой бюджет, что она дала с собой, хватило мне на 2 обеда. На вечер ничто лучше кроме крапивы. Я слабею. Теперь, когда я это пишу, у меня чувство, как будто бы моя голова - это воздушный шар, который может улететь. И если я наклоняюсь, то у меня появляется головокружение. Переход слишком резок. Все же я радуюсь, что у меня были несколько жирных недель. От них еще сила остается во мне. Рано или поздно они начнут распределение. На русского кормильца я больше не могу полагаться. Все проходит.