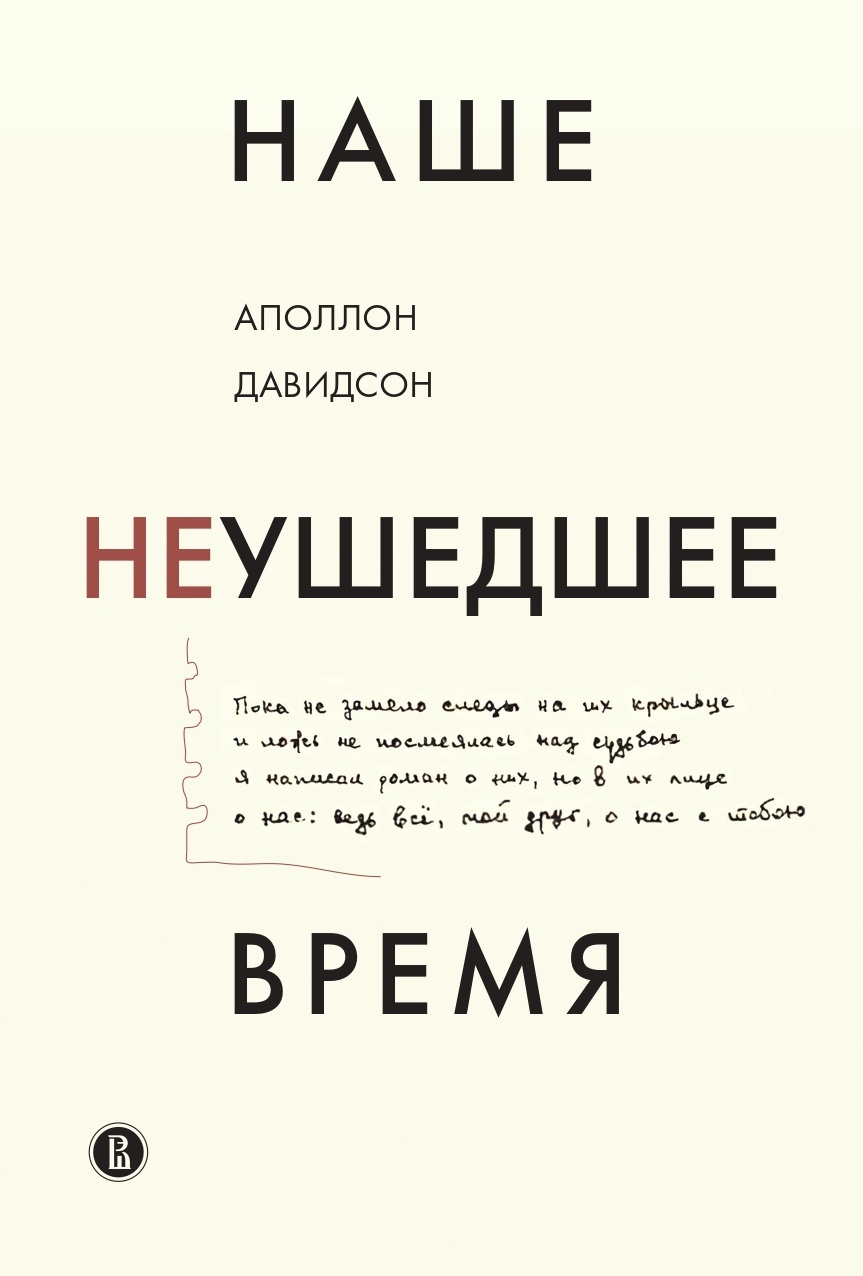«Не всегда хорошо кончалось…»
Началось все дело с песенки,
А потом – пошла писать!
«Ну что ж, говорит, одевайтесь,
И пройдемте-ка, гражданин» [184].
Александр Галич
После разговора с Ахматовой я бросился искать материалы, которые она упомянула. Но непосредственный повод отпал. Вскоре усилились идеологические заморозки, и статью мою печатать отказались: «не проходит».
Работа пошла медленнее. Без прямого дела отнимать время у Анны Андреевны было совестно. Казалось – успеется… И увидел ее вновь лишь в 1966-м, пасмурным утром 9 марта, на дальних задах больницы Склифосовского, в морге, где сотни москвичей прощались с нею. Краткий, стихийно возникший траурный митинг.
Никто из генералов от литературы не пришел. В стране – очередное «завинчивание гаек». Только что прошел суд над Синявским и Даниэлем. По всем газетам – залп статей. В «Правде» – «Лицо клеветников», в «Известиях» – «Перевертыши». Не отставала и «Литературка» – «Удел клеветников».
До Ахматовой ли тут? О ее кончине сообщалось очень скупо.
Мы стояли под моросящим дождем, не зная, будет ли траурный митинг. Наконец, поднялся на ступеньки морга Виктор Ефимович Ардов. К руководству Союза писателей он отношения не имел. Ахматова была в дружбе с его семьей, жила у них на Ордынке месяцами. Говорил хорошо, тепло. После него все же выступил писатель Лев Озеров. И – всё…
* * *
Встреча с Ахматовой не привлекла ко мне дополнительного внимания бдящих органов. Так мне казалось (хотя кто знает, ведь своего дела в КГБ я не видел). И если до пятидесяти двух лет я был «невыездным», думаю, что немало было и других поводов.
А вот за любовь к Гумилёву я все-таки поплатился. Но совсем не тогда, а, что поразительно, почти четверть века спустя, осенью 1986-го. Уже началась перестройка. Весной Гумилёва «реабилитировали». Я уже прочитал лекцию о нем в переполненном зале Дома ученых: наверно, вообще первую в Москве лекцию о Гумилёве.
В одну из поездок за границу я купил книгу «Неизданное и несобранное» Николая Гумилёва [185]. Вышла она в Париже и нужна была мне позарез: я писал книгу «Муза странствий Николая Гумилёва».
Конечно, риск был велик: провозить эмигрантское издание – политический криминал. Но – пронесло – не обыскивали!
В Москве не удержался – показал друзьям. Одному из них так захотелось иметь эту книгу, что он умолял меня сделать ему ксерокопию.
Но как? Ксероксы были только в учреждениях. На каждую копию надо получать разрешение дирекции. О том, чтобы копировать эмигрантское издание, не могло быть и речи.
Ксерокопированием в нашем институте занимался человек, которого мы все любили, да и он относился к сотрудникам неплохо. Я его и попросил. «Ладно, сделаю», – сказал он.
Но, должно быть, кто-то увидел у него эту книгу и, как говорили тогда: «стукнул».
Пришли два офицера МВД – майор и капитан. Книгу изъяли, комнату с копировальной машиной опечатали. Копировальщику сказали, что он может считать себя уволенным. Пришли с угрозами в дирекцию и в партбюро. И конечно, вызвали на допрос меня.
Майор, звали его Николай Михайлович Ветошкин, держался не очень враждебно. Зато капитану, и это чувствовалось, возможность показать свою власть доставляла огромное удовольствие.
Я перебирал в голове содержание книги. Это были документы из наших отечественных архивов: из Центрального государственного архива литературы и искусства и из Отдела рукописей Ленинской библиотеки. К ним получили доступ двое иностранных ученых. Книгу издали, к сожалению, наспех. Не очень профессионально. В начале книги дали фотографию с надписью «Н.С. Гумилёв, ок. 1920 г.». Увидев ее, я оторопел: это был поэт Борис Александрович Садовский.
Но «крамольного» там ничего не было. Однако:
– Без разрешения Вы не имеете права сделать даже копию из журнала «Работница». Так что уголовное преступление налицо.
Капитан – еще резче:
– Найдется и политическое. Дело не в самих стихах и письмах. Но там есть предисловие составителей. Если в нем хоть одна антисоветская фраза – вот Вам и политика.
Тянулось это целый месяц. Тягали меня не раз.
Как-то в Доме ученых на Кропоткинской ко мне подошли две незнакомые женщины. Назвали меня по имени-отчеству, и одна их них сказала, немножко смущаясь:
– Мы работаем в Главлите. Нам поручено рассматривать Ваш случай. Мы в этой книге крамолы не нашли.
Я растерялся от неожиданности…. С чего это сотрудницы Главлита – цензуры – решили вдруг со мной объясняться? Я ничего не ответил, но, видно, на лице у меня было удивление. И другая сказала:
– Понимаете, мы обе любим Гумилёва… И были на Вашей лекции здесь, в Доме ученых.
Еще помолчали.
– Но ведь решать будем не мы…
Я понял, что пришло время, как говорится, сушить сухари…
Но внезапно все сошло на нет. Почему? Я мог только гадать. Главное, думаю: все-таки шел ноябрь 1986-го. Перестройка набирала темпы. И еще. Вокруг имени Гумилёва уже начался такой бум, что устраивать экзекуцию, связанную с его именем, наверно, было ни к чему. К тому же срочно потребовалось мое участие в очередной советско-американской Дартмутской встрече, в обсуждении непростых событий на Юге Африки. На этом фоне мое «дело» кануло в Лету.
Так что «не всегда хорошо кончалось» не только в Питере, а и в Москве, и не только при жизни Ахматовой, но и позднее.
Книгу «Николай Гумилёв. Неизданное и несобранное» мне, конечно, не вернули. Ни тогда, ни потом.
Встречи с «невенчанной вдовой»
Мы прожили столько лет,
А жизнь нашу всякий осудит.
Ирина Одоевцева
Анна Андреевна считала, что Ирина Владимировна Одоевцева создает себе образ невенчанной вдовы Гумилёва.
О воспоминаниях Одоевцевой Анна Андреевна знала, но ее книгу «На берегах Невы» не видела: она вышла в 1967-м, когда Ахматовой уже не было в живых.
Если бы Ахматова ее прочитала, быть может, смягчила бы свое суровое отношение к Одоевцевой, не считала бы ее одной из «ничего не помнящих старушек» и не винила в «мещанских сплетнях».
Одоевцева писала об Ахматовой с глубоким, почти молитвенным трепетом. Как поэтессу – просто боготворила. Об ее отношениях с Гумилёвым высказывалась предельно уважительно. «Я уверена, что Ахматова была главной любовью Гумилёва и что он до самой своей смерти – несмотря на свои многочисленные увлечения, – не разлюбил ее» [186].
Преклонением перед Ахматовой проникнута вся книга. «О, я дала бы пять, десять лет своей жизни, чтобы так идти с ней и слушать