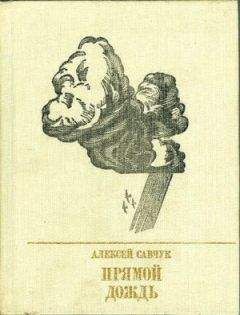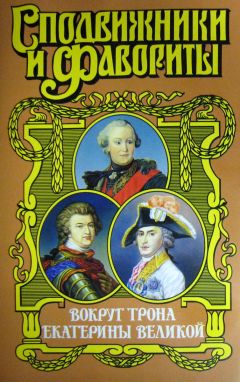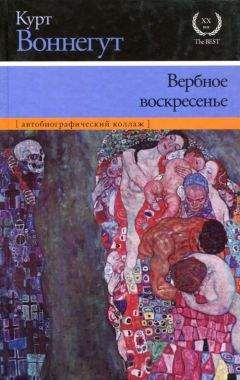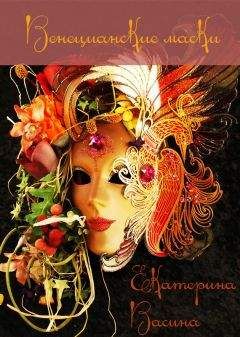Теперь во что бы то ни стало нужно было спасти документы: в протоколе — фамилии товарищей, маршруты, названия организаций… Слишком уж богатая добыча для «стражей закона».
Все решали сейчас минуты, смекалка и находчивость.
К Муранову подошел невысокий, с выпученными, как у совы, глазами агент тайной полиции.
— Не прикасайтесь ко мне! — строго сказал Муранов. Встретив решительный отпор, жандармы заколебались.
— Обыщите, — небрежно кинул приставу ротмистр.
— Обыщите вы, — буркнул пристав, стоя с вытянутыми по швам руками и не трогаясь с места.
— По инструкции я имею право приказывать, — сердито сказал ротмистр.
— Не знаю такой инструкции, — огрызнулся пристав. Спор между офицерами ни к чему не привел, и один из них отправился к начальству за указаниями.
— Прошу, господа, никуда не выходить, — приказал второй и поставил около депутатов двух полицейских.
У Муранова в кармане записная книжка с адресами товарищей, названиями заводов и организаций, которые он посетил, с краткими заметками о нелегальной работе на Урале. Книжку необходимо уничтожить. Но как? Муранов направился было к двери.
— Не выходить!
— Мне по надобности…
Жандарм, стоявший у двери, заколебался, и, воспользовавшись этим, Муранов решительно вышел из комнаты. За ним следом выскользнул шпик. Запершись в туалете, Муранов бросил записную книжку в яму.
Наступила ночь, а офицер не возвращался. Возмущенные депутаты потребовали, чтобы их освободили, наконец грозились пожаловаться на произвол полиции и жандармерии.
Отпустили их только на рассвете. Шпики окружили пятерку депутатов тесным кольцом и сопровождали ее до самой Думы.
Долго пришлось ждать Родзянко. Наконец он появился. Вместе с председателем депутаты вошли в Таврический дворец. Агенты охранки вынуждены были остаться на своих постах и мокнуть под дождем.
— Господин председатель, — обратился Петровский к Родзянко. — Этой ночью полиция учинила небывалое самоуправство. Мы настоятельно требуем принять необходимые меры. — И Петровский рассказал обо всем, что случилось в Озерках.
Родзянко обещал послать запрос в правительство и объявить протест от имени Думы.
Григорий Иванович возвратился домой.
— Не волнуйся, все в порядке. Задержали, но, как видишь, отпустили, — ответил он на встревоженный взгляд жены.
— Я так и знала… Только задремала, приснились лошади в черных лентах… Они мне всегда снятся перед бедой… Ведь социал-демократическую фракцию Второй Думы все-таки сослали в Сибирь.
Григории Иванович, уставший, с темными кругами под глазами, никак не мог успокоить жену. Трудно произносить слова утешения, если сам в них не веришь!
Они явились поздно вечером, когда Григорий Иванович уже собирался лечь. Забарабанили изо всех сил в дверь. Проснулись испуганные дети. Протирая заспанные глаза, заплакала Тоня. Петя и Леня, насупившись, смотрели, как по квартире шныряют жандармы, заглядывают в каждый угол, как ворошат на отцовском столе бумаги.
Григории Иванович уже ничего не говорил о депутатской неприкосновенности. Он не сомневался, что об их аресте известно и правительству и царю. Теперь апеллировать можно только к трудовому народу.
Петровского вывели под усиленной охраной жандармов.
В квартире, как после погрома: разбросаны книги и бумаги, раскрыты чемоданы, высыпано на пол содержимое ящиков стола, беспорядочно сдвинуты стулья…
Молча сидят дети. Тоня прижимает к себе ветку сломанного фикуса, который они привезли еще из Мариуполя, и горько всхлипывает. Доменика ласково говорит дочке:
— Не плачь, мы посадим эту ветку, будем поливать, она непременно вырастет и превратится в большое красивое дерево…
18
Хмурое утро 9 ноября 1914 года. Темные, низкие тучи затянули небо над Петроградом.
По грязным, скользким улицам в сером, промозглом тумане торопятся в свои департаменты, зябко поеживаясь, чиновники, барская прислуга с корзинами в руках спешит за провизией, настороженно, точно нахохленные вороны, стоят в длинных черных шинелях городовые, из подъездов выглядывают дворники в фартуках…
Идет четвертый месяц войны. Приподнятое настроение первых военных дней, уверенность в скорой и громкой победе исчезли, уступив место унынию, страху и чувству безнадежности.
Вдоль Невского носятся посипевшие от холода мальчишки и, зажимая под мышками пачки газет, громко выкрикивают:
— Всемирная сенсация! Спешите купить газету!
— Арест депутатов Думы!
— Пойманы немецкие шпионы!
— Большевики за решеткой!
— Это может случиться только в такой дикой стране, как Россия! — возмущается какой-то человек.
— Ах ты, крамольник! — слышится в ответ. Каждый на свой лад воспринимает и оценивает необыкновенное известие…
Рабочих депутатов поместили в камеры дома предварительного заключения на Шпалерной. Петровский понимал: правительство сделает все, чтобы не только оторвать их от рабочего люда, но и добиться для них самого строгого наказания. Оно постарается использовать суд и нанести большевистской партии жесточайший удар. Уже вопросы следователя по особо важным делам Сулевского сказали Григорию Ивановичу многое: судебные власти собираются обвинить рабочих депутатов в самом тяжком преступлении военного времени — измене родине.
Обидно, что дневник попал в черные руки царских приспешников и они теперь будут глумиться над его заметками…
В Зимнем дворце, в приемной, в ожидании свидания с императором дремал председатель Совета министров семидесятипятилетний статс-секретарь Иван Логгинович Горемыкин. Из кабинета бесшумно выскользнул адъютант, наклонился к уху премьера и прошептал:
— У его величества государя императора барон Фредерикс.
Значит, ждать придется долго.
В 1897 году Николай II назначил барона Фредерикса министром императорского двора, и вот уже целых семнадцать лет они неразлучны. Барон стал одним из ближайших советников царя, умело приспособившись к характеру безвольного, неуравновешенного и жестокого монарха.
Царь знал, что в приемной его ждет Горемыкин, догадывался, что он опять станет бубнить о фронтах, внутренних беспорядках, о социал-демократической рабочей фракции IV Государственной думы… Как ему осточертели все эти Думы! Две он уже разогнал и полагает — своевременно… Теперешняя Дума — четвертая по счету. Выборы в нее были столь умно и хитро обставлены, так тонко продуман избирательный закон, что туда попала лишь небольшая горстка рабочих — самого неспокойного элемента. Но даже эта небольшая группа портила все… В конце концов пятерка большевистских депутатов доигралась и очутилась за решеткой. Повесить бы этих голубчиков… Горемыкин настаивает на военном трибунале, а главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, несмотря на свои твердые монархические убеждения, против… Все потому, что идет война. Он, самодержец, должен сказать свое решающее слово. А как ты его скажешь, если даже Александра Федоровна колеблется и Распутин молчит…