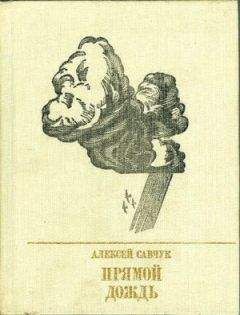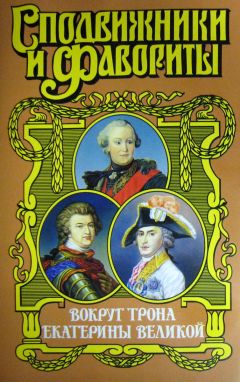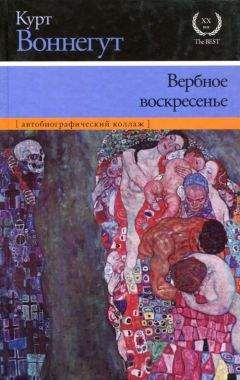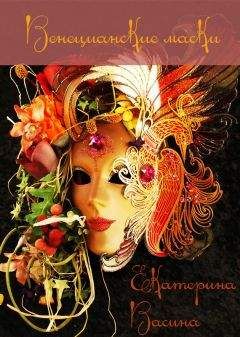— Помните, ваше императорское величество, — говорит флигель-адъютант барон Фредерикс, старичок с молодцевато выпяченной грудью, в мундире, подбитом ватой и увешанном крестами и медалями, — как ваш матушка Мария Федоровна ехаль в седле? Ехаль отшень корошо. Отшень. Я любовал, как ровно торчал голова ваш матушка. Ваш матушка был храбрый, не боялся конь… А ваш батюшка не отшень любил конь… И его конь боялся, он был громад телом, мне трудно было подобрать конь… А матушка ваш любил седло, и вы, ваше императорское величество, ездил корошо, настоящий кавалергард…
Последние слова царь выслушал с особым удовольствием: он гордился своей службой в кавалергардском полку, любил кавалерийскую форму и частенько красовался в ней. Слова Фредерикса ласкали и тешили душу императора, отвлекали от надоедливых государственных забот, придворных интриг и правительственных сплетен, которые именовались делами.
Горемыкин терпеливо ждал приема. Он ревностно служил русскому престолу, постоянно ощущая царскую благосклонность. Облюбовал для себя роскошный дом, который продавал генерал-адъютант Безобразов на Моховой улице, и, получив в подарок семьсот тысяч рублей из государственной казны, приобрел его. Сверх того ему вручили двести тысяч на обстановку для апартаментов.
Но вот вопрос о думских депутатах гвоздем сидел в голове и не давал покоя…
Тот позорный день и теперь ранит его душу. Помнит, как светлым осенним днем он подъехал в коляске к решетчатой железной ограде Таврического дворца, где заседала IV Дума. В белоколонный зал уже явились министры, чтобы услышать речь нового главы правительства. Дворец был окружен конной полицией, оберегавшей народных избранников, перед которыми он, только что ставший председателем Совета министров, пожелал выступить и поделиться мыслями о будущей работе правительства его императорского величества. Ему услужливо прокладывали дорогу, а в отдалении хмуро стояли толпы рабочих…
Помнит ту неожиданную обструкцию, которую ему устроили левые депутаты. Он мечтал найти единомышленников, а встретил отчаянное сопротивление настоящих бунтовщиков. И в такое время! Начинался 1914 год… Германия угрожала России войной, необходимо было укрепить армию и флот, увеличить военный бюджет… И сейчас помнит пережитое горькое унижение… Еще ничего не сказал, только открыл рот, как левые подняли невероятный шум, застучали пюпитрами, начали выкрикивать насмешливые, едкие слова. Председатель Думы Родзянко не в силах был, как ни старался, заставить их замолчать. И только после того как из зала были удалены все члены обеих социал-демократических фракций и фракции трудовиков, он смог произнести свою речь. Но все ужо было испорчено. Депутаты-большевики были той злой силой, которая призвала к непокорству. Между этими депутатами и рабочими России возникла тесная связь. Еще год-полтора назад положение было иным и все, что происходило в Государственной думе, не касалось трудового люда. Социал-демократов выдворяли из зала заседаний, обыскивали их квартиры, арестовывали их друзей — народ оставался безучастным. А в последнее время тысячи рабочих Петрограда и других городов начали остро реагировать на выступления своих представителей, внося в дела империи смуту и беспокойство.
Думские же социал-демократы стали немедленно откликаться на любые выступления рабочих, порочить действия правительства, будоражить и без того непокорные массы. Каждый призыв рабочего депутата вызывал горячий отклик на фабриках и заводах, порой выливающийся в решительный протест или стачку.
Нет, сколько бы он, председатель Совета министров, ни встречал противодействия, он будет настаивать на суровом наказании виновников беспорядка: Петровского, Муранова, Бадаева, Самойлова, Шагова…
Вышел адъютант, и Горемыкин наконец направился в императорский кабинет, стараясь повыше поднимать ноги, чтобы скрыть свою шаркающую старческую походку. Он опустился в кресло, где только что сидел барон Фредерикс. Царь посмотрел на дряблее, усеянное темными пигментными пятнами лицо Горемыкина, обрамленное широкими белыми бакенбардами, и чуть заметно дернул плечом.
— Ваше императорское величество, — произнес премьер, — ваше императорское величество… — собирался он с мыслями и быстро-быстро начал говорить о нехватке оружия на фронте, о казнокрадстве, о жуликоватых интендантах и непорядках в действующем армии, о станциях, забитых эшелонами с ранеными, фуражом, боеприпасами.
Царь косился на Горемыкина и думал: с какой стати об этом докладывает он, а не военный министр Сухомлинов? А, вот и о Думе заговорил.
— Ваше императорское величество, депутаты от рабочих — чрезвычайно опасные преступники. Они выступили против основ самодержавия. Не могу понять, почему великий князь Николай Николаевич в грозное военное время настаивает на гражданском судопроизводстве?..
Николай и сам, слушая Горемыкина, напряженно думал, что лучше сделать — передать дело в гражданское судопроизводство или в военное? Назло великому князю, он передал бы в военный трибунал… Ведь и петроградский градоначальник принц Ольденбургский настаивает отправить депутатов-большевиков на виселицу. И министр юстиции Щегловитов тоже требует военного суда.
Но царь хорошо помнил письмо великого князя из Ставки в Петроград. В нем Николай Николаевич писал:
«По глубокому моему убеждению, передача дела на рассмотрение военного суда неминуемо должна была… вызвать брожение среди фабричных и иных оппозиционных элементов. Между тем спокойствие в рабочей среде, обслуживающей разнообразные нужды армии, в заботах о последней, представлялось мне весьма важным. Как это ни странно может показаться, но в мирное время я безусловно предал бы всех арестованных по настоящему делу военному суду, а теперь, в военное, — особенно при настоящих условиях — считаю такую меру несоответственной. Допускаю, что часть общественного мнения может счесть приведенные суждения за проявление слабости. Но до сих пор меня в этом никто не упрекал, и этим следовало воспользоваться, для того чтобы принять такое именно решение, которого требуют обстоятельства».
Так же определенно высказывался и товарищ министра внутренних дел Джунковский в письме начальнику штаба Ставки генералу Янушевичу:
«По делу депутатов у меня совершенно определенное мнение, что по государственным соображениям передавать дело военному суду нежелательно… Наказание… по законам военного времени может вселить в население убеждение, что правительство воспользовалось военным положением и расправилось с ненавистными депутатами… Тем более что наказание как по военному, так и по гражданскому суду одно и то же».