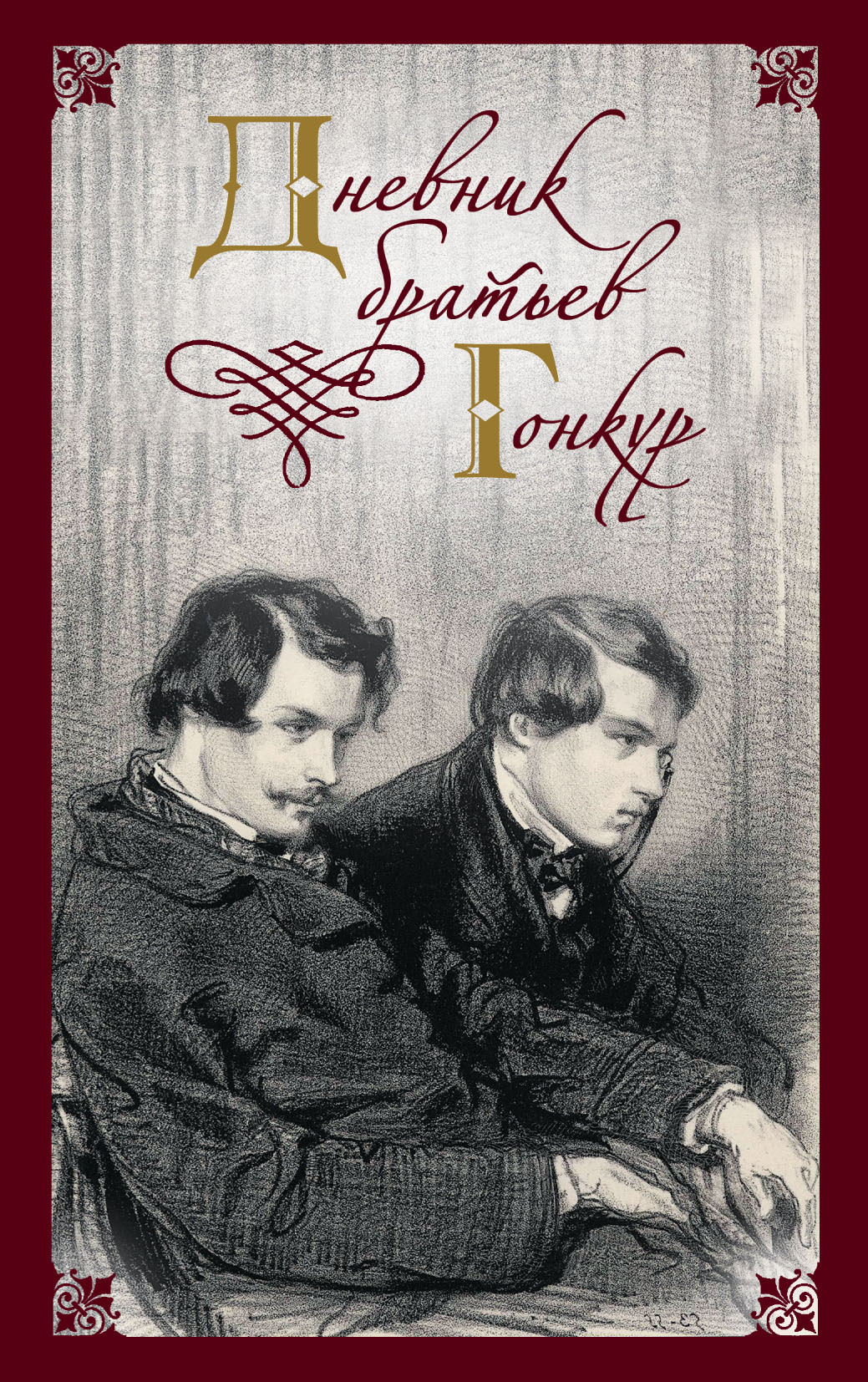class="p1">Рисунок его очень точен, очень строг; он передает и кремнистую поверхность горной страны, и неровность почвы, истоптанной стадами баранов, и изумрудно-зеленый блеск травы весною, и фиолетовую сухость русла, и силуэты маслин, напоминающих церковные подсвечники. Тут есть и красивые изображения внутреннего убранства домов с большими стеклянными просветами в свинцовых рамах – между прочими и дом Ирода и его жены. Но истинно прекрасны, волнующи и трогательны рисунки Смерти на кресте, многочисленные, передающие час за часом все страдания Распятого на вершине Голгофы, и изнеможение святых жен, и любовное объятие Магдалины, обвивающей руками древо креста.
И по мере того как развертывается драма, Тиссо оживляется, воодушевляется все больше, говорит все более глубоким, более взволнованным шепотом. Он придает изображаемому такие чувства, какие могли бы составить любопытное добавление к апокрифическим евангелиям.
Бесспорно то, что эта жизнь Христа в ста с лишком картинах, в которых умелое воспроизведение реальной среды, местностей, рас, костюмов соединяется с мистицизмом художника, постепенно вызывает великую жалость и грусть – ту умиленную грусть, которой не даст вам ни одна книга.
10 апреля, четверг. Раньше пытались передать очарование, живость, лукавство женского лица; а сейчас о наших почитаемых пастелистах, приверженных розовому цвету обмороженного тела и фиолетово-серым тонам, можно было бы сказать, что они стремятся выразить лишь усталость, смятение, сердечные неурядицы, – словом, всякого рода физические и нравственные недомогания, какие только могут отпечататься на лице женщины.
4 мая, воскресенье. Доде очень верно говорит, что литература, после того как она последние годы находилась под влиянием живописи, начинает в настоящее время переходить под влияние музыки и становится такою же звучною и вместе с тем такою же неопределенной, бесформенной, как и сама музыка.
Эредиа, говоря о поэтах настоящего времени, подтверждает, что их стихотворения – это не более чем модуляции, почти без определенного смысла, что сами они называют «монстрами» эти бесформенные наброски стихов, где пробелы заполняются – до подправки и полной завершенности, – словами безо всякого значения [141].
9 мая, пятница. Чем дольше я живу, тем больше прихожу к убеждению, что нервный мужчина гораздо утонченнее, гораздо чувствительнее и гораздо брезгливее при соприкосновении с вещами и существами низшего порядка, чем женщины, у которых, в сущности, утонченность – только поза.
20 мая, вторник. Думаю о несправедливости судьбы – счастливой и несчастной – лошадей, собак и кошек и нахожу, что у животных то же, что и у людей.
12 июня, четверг. Когда любишь кого-нибудь, как я любил брата, то как будто заново хоронишь его всякий раз, когда бываешь на похоронах, и все время так и звучит в голове безнадежный вопрос: «Неужели эта разлука будет вечной, вечной, вечной?»
8 июля, вторник, Шанрозе. Весь вечер прошел в рассказах то отца, то матери про женитьбу Леона (Доде), вот уже несколько лет безумно влюбленного в Жанну Гюго [142].
9 июля, среда. Разговариваем на террасе. Вспоминаем Гюго, и госпожа Локруа сообщает подробности о его житье на острове Гернси [143]. Гюго вставал на заре, летом в три часа утра, и работал до двенадцати дня. После двенадцати – ничего: чтение газет, переписка, которой он всегда занимался сам – у него не было секретаря, – и прогулки. Замечательная черта – необыкновенная правильность этой жизни: каждый день двухчасовая прогулка, но по одной и той же дороге, чтобы не опоздать ни на одну минуту; госпожа Локруа, выведенная из терпения этим однообразием, получает в ответ: «Если пойдешь другой дорогою, не знаешь, что может случиться, пожалуй еще опоздаешь!»
Все ложились ровно в половине девятого: хозяин требовал, чтобы в это время все были в постели, и раздражался, зная, что госпожа Локруа сидит в своей комнате. Железный организм, как известно. Зубы у него все сохранились до самой его смерти, и за несколько месяцев до нее он этими самыми зубами разгрызал абрикосовую косточку. А глаза! Он работал на Гернси в стеклянной клетке без штор, она была залита светом, от которого у всякого другого перестали бы видеть глаза и растаял мозг.
31 июля, четверг. По поводу нескольких слов, оброненных мной за обедом, Жеффруа сказал: «Я катался со смеху! Самое забавное – это то, что у вас, пессимиста, есть словечки свирепо-веселые» [144].
3 октября, пятница. Гюго в организации своей жизни был методичен до невероятия. Когда начинало темнеть, он с огнем уже не читал – ни одной строчки из газеты, ни строчки письма. Он и письмо клал в карман, говоря, что прочтет завтра. Госпожа Локруа рассказывала нам сегодня, что в начале войны, когда все задыхались от нетерпения в ожидании известий, в один из туманных дней, когда газеты пришли только к вечеру, он не дотронулся ни до одной из них, а только просил сказать ему, что в них.
7 октября, вторник. Обед с каким-то русским, камергером императора, который утверждает, что Тургенев не истинный русский, что он разыгрывал в Париже нигилиста, а там у себя держался отъявленным барином. По мнению этого русского, только первые произведения Тургенева имеют ценность – в них он дал настоящее изображение своей страны.
Насколько я понял своего собеседника, самым русским из современных русских писателей в России считают Достоевского.
27 октября, понедельник. Я провел сегодня весь день у Ленуара, отыскивая и улавливая знакомые черты брата в эскизе медальона, который Ленуар вырезает для его могилы [145]. Мне удалось, руководя скульптором, устранить грубую материальность, которую он придал его лицу с красивым маленьким ртом, его подбородку, который все художники удлиняли в ущерб верхней части головы. Мне удалось восстановить и точную линию носа. И теперь я чувствую даже радость, вглядываясь в разложенные на диване нечеткие фотографии и недоконченные рисунки, когда понемногу мне удается, насколько позволяет память, придать этому маленькому комку глины черты любимого профиля…
28 октября, вторник. Удивительно, что я всю жизнь создавал литературу, которая… доставляет неприятности. Сначала это были романы с натуры, потом революционные пьесы, совершившие переворот в театре, наконец – мой дневник. А мало ли людей, которым писательство только щекочет нервы.
Сегодня, по моей просьбе, мне посылают из газеты «Эко де Пари» репортера, которому я поручаю ответить на нападки Ренана. Канву для ответа даю я сам.
Вот тот отрывок, который он должен вставить в свою статью, ничего не изменяя, ничего не прибавляя:
«– Вы читали интервью газеты "Ла Франс" по поводу вашего дневника об осаде Парижа и Коммуне?
– Да, я прочел ее с некоторым удивлением, ибо вот портрет Ренана, сделанный мною в предпоследней из