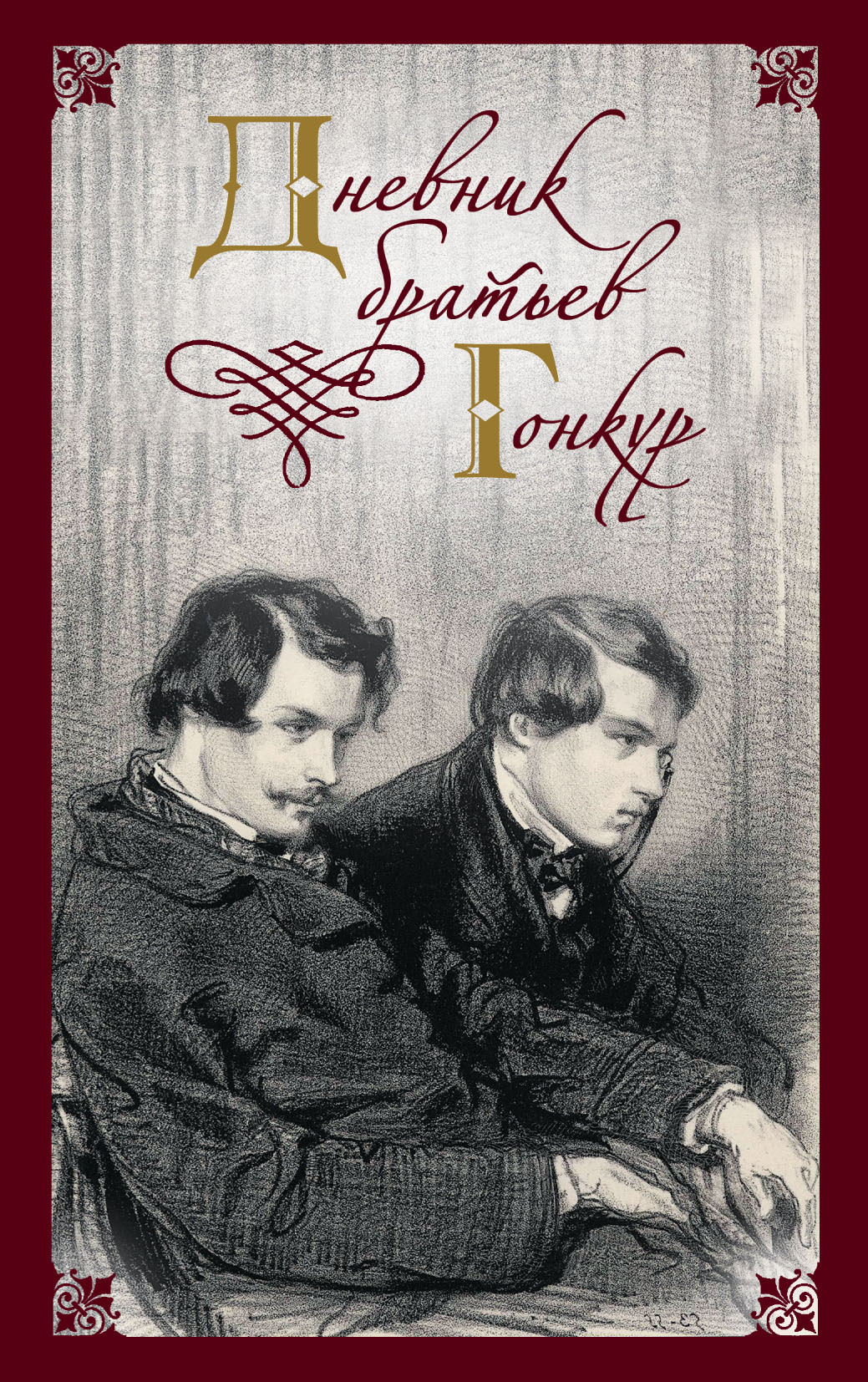с ним задумали.
17 апреля, воскресенье. Сегодня, не знаю почему, меня преследует воспоминание о моей кормилице в Лотарингии, чернобровой и черноволосой женщине, в которой, без сомнения, текла испанская кровь и которая меня обожала с каким-то безумием. Вижу, как когда я только что съел единственный спелый абрикос на деревце, росшем у нас во дворе, абрикос, предназначенный моим отцом для угощения гостей, – вижу, как она с прекрасным бесстыдством утверждает, что абрикос съела она, и подставляет плечи под удары хлыста, которым отец все-таки наказывает меня, не веря словам этой милой женщины!
Вижу ее за несколько часов до ее смерти, в больнице Дюбуа; зная, что умирает, она беспокоится только о том, что моя мать, пришедшая ее навестить, может на полчаса опоздать на обед. Эта смерть – самое простое отречение от жизни, которое я когда-либо видел: она уходила из жизни, будто перебиралась на новую квартиру.
29 сентября, четверг. Доде говорит, что после Бурже появилась целая серия психологических романов, авторы которых, по примеру Стендаля, хотят изображать не то, что их герои делают, а то, что они думают. К несчастью, мысли, если они не очень высоки или не очень оригинальны, наводят скуку, тогда как действие, хотя и посредственное, может еще увлекать своим движением.
Он прибавил, что эти психологи более способны описывать внешние, чем внутренние явления, то есть в состоянии прекрасно описать жест, но душевное движение – довольно плохо.
10 октября, понедельник. Мне попалась статья газеты «Либерте» и в ней отчет о книге Павловского и о его разговорах с Тургеневым [135].
Наш покойный друг оказывается очень свирепым в своих суждениях о нас: нападает на нашу изысканность, отрицает нашу наблюдательность – и всё это в легко опровержимых замечаниях.
Например, по поводу ужина цыган ночью на берегу Сены (начало «Братьев Земгано»), где встречается описание ивы, которую я называю серою по наблюдению, записанному на месте, он говорит: «Известно, что ночью зеленое становится черным». Да не прогневается тень русского писателя, но мы с братом более живописцы, чем он, о чем свидетельствуют посредственные картины и отвратительные предметы искусства, которыми он был окружен. Я утверждаю, что ива, виденная мною, была серой, а вовсе не черной. И в том же описании эпитет сине-зеленый, сказанный про воду, старый эпитет, так часто употребляющийся, заставляет его восклицать: «Как изысканно!»
По поводу «Фостен» Тургенев прячется за госпожой Виардо, говоря, что наши наблюдения над чувствами женщин актрис в высшей степени неверны. А то, что он находит неверным, записано частью по наблюдениям, сообщенным Рашель, частью по драматической исповеди Фаргейль [136] в длинном письме, хранящемся у меня.
Тургенев – и это неоспоримо – говорил превосходно, но как писатель он ниже своей репутации. Я не стану оскорблять его, предлагая судить о нем по его роману «Вешние воды». Да, он пейзажист, замечательный живописец лесной глуши – но как живописец человека он мелок. В нем не хватает смелости, необходимой наблюдателю. Действительно, в его книгах нет суровости его родины, суровости московской, казацкой, и соотечественники Тургенева по его книгам кажутся мне такими русскими, какими описал бы их русский, доживающий век свой при дворе Людовика XIV. Помимо отвращения его темперамента ко всему резкому, к беспощадно правдивому слову, к грубому колориту, у него была еще прискорбная покорность требованиям издателя. Об этом свидетельствует «Русский Гамлет»: Тургенев сам признавался при мне, что вследствие замечаний редактора урезал оттуда четыре или пять весьма характерных фраз. По поводу смягчения Тургеневым человеческих характеров его страны у нас с Флобером однажды завязался самый горячий спор, какой мы когда-либо устраивали: он утверждал, что эта суровость – потребность лишь моей фантазии, что русские, скорее всего, именно таковы, какими их рисует Тургенев. Впоследствии романы Толстого, Достоевского и других, кажется, вполне оправдали мое мнение.
12 октября, среда. Вспоминая про неприязнь, можно сказать, про писательскую несправедливость Тургенева по отношению к Доде и ко мне, я нахожу причину этой несправедливости в одном качестве, одинаковом у Доде, моего брата и меня, – в иронии. Примечательно, как иностранцы и провинциалы робеют перед этим чисто парижским свойством ума и часто питают антипатию к людям, речь которых как будто скрывает тайные и секретные насмешки, им недоступные.
7 сентября, пятница. Успех русского романа в настоящую минуту вызван главным образом раздражением наших благонамеренных ученых-литераторов популярностью натуралистического французского романа и желанием затормозить эту популярность.
Неоспоримо одно. Это такая же литература: та же реальная жизнь людей, взятая с ее печальной, человеческой, не поэтической стороны, – как например, у Гоголя, самого типичного представителя русской литературы.
Ни Толстой, ни Достоевский, ни другие не выдумали эту русскую литературу; они заимствовали ее у нас, щедро сдобрив ее Эдгаром По. Ах, если бы под романом Достоевского, которому так изумляются, к мрачным краскам которого так снисходительно относятся, стояла подпись Гонкура, какой поднялся бы вой по всему фронту!
И вот человек, нашедший этот ловкий способ отвлечь от нас внимание, человек, который так непатриотично помог чужестранной литературе воспользоваться расположением и восхищением, да, восхищением, принадлежащим нам по праву, – это господин де Вогюэ. Ну не заслуга ли это перед Академией, которая в скором времени призовет его в свое лоно? [137]
22 января, вторник. Мы беседуем с Золя о нашей жизни, целиком отданной литературе, как этого не делал еще никто и никогда, ни в какую эпоху, и приходим к выводу, что были подлинными мучениками литературы, а быть может, просто вьючными животными.
Золя признается, что в этом году, на пороге своего пятидесятилетия, он испытывает новый прилив сил, влечение к земным радостям. А потом, внезапно прервав себя, говорит: «Моей жены нет здесь. Ну так вот. Всякий раз, как я встречаю молодую девушку – вроде той, что идет мимо, – я говорю себе: "Разве это не лучше книги?"»
11 февраля, суббота. В сущности, у Шекспира, несмотря на всё «человеческое», собранное им в окружающей его среде и налепленное в его трагедиях на существа других веков, человечество кажется мне чем-то химерическим. К тому же его люди иногда страшно придирчивы, страшные спорщики и в острой форме страдают болезнью англосаксонского племени – страстью к прениям, к схоластическим прениям.
Наконец, противно мне в этом бесспорно величайшем писателе прошлого отсутствие воображения. Да, да, это неопровержимо, драматические писатели всех стран, начиная с самых знаменитых из древних и кончая нашим Сарду [138], все они лишены воображения и пишут