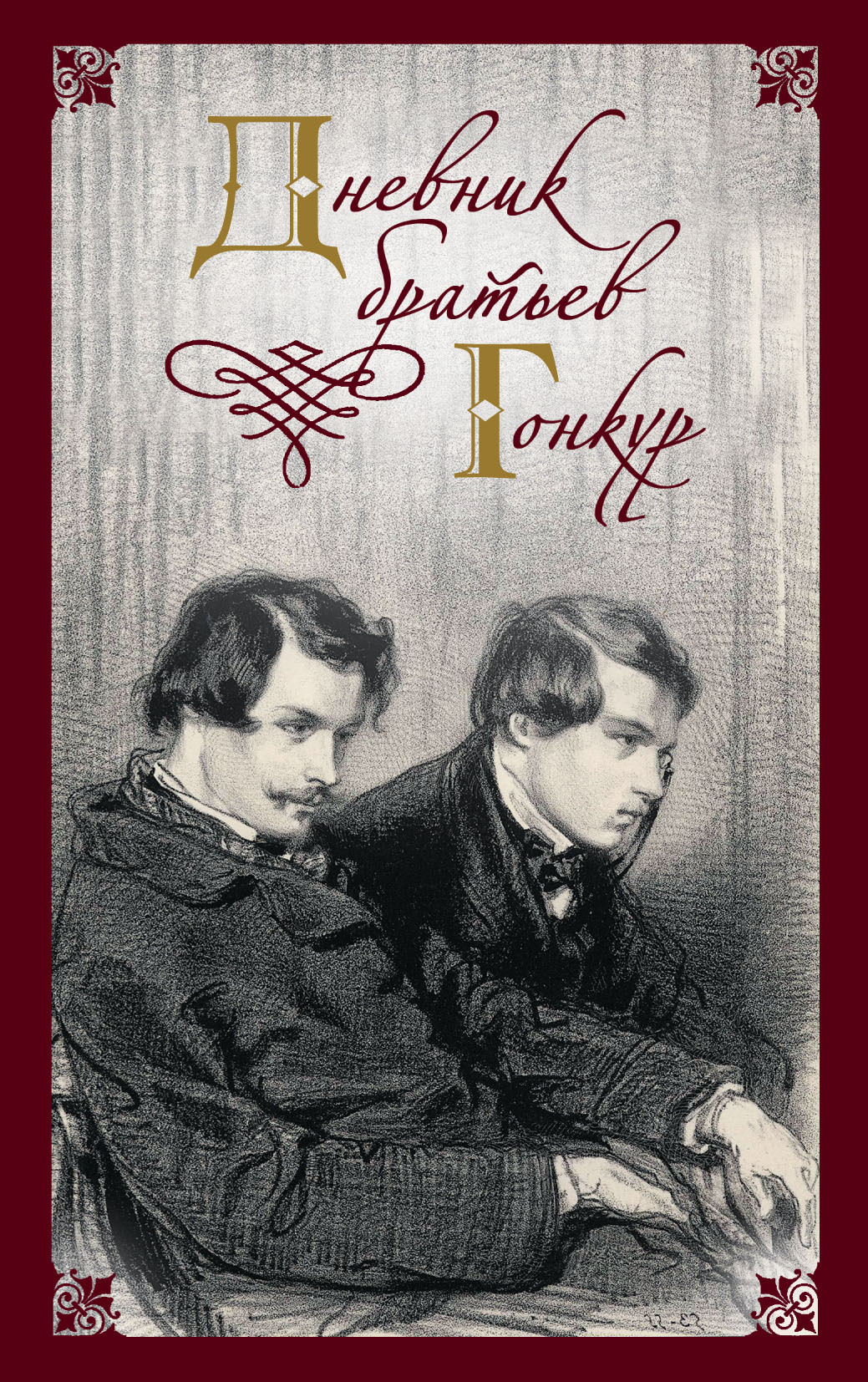моих книг: "Ренан становится все более милым и дружески-любезным, по мере того как вы ближе узнаете его и сходитесь с ним. Это тип душевной грации при внешней неуклюжести. Апостол сомнения, он обладает высокой и разумной приветливостью жреца науки". Да, я его друг, или, по крайней мере, я был его другом, но иногда я враг его мысли, как я это и написал в посвящении посланного ему экземпляра.
Действительно, все знают, что Ренан принадлежит к числу великих мыслителей, презирающих многие из человеческих убеждений, перед которыми еще благоговеют люди более скромные, подобные мне. Им не слишком приятно слышать, как этот мыслитель провозглашает, что в настоящую минуту культ отечества устарел так же, как культ короля при старом режиме. Я не хочу здесь пускаться в подробности по поводу разговоров, приведенных в последнем томе, о котором, впрочем, Ренан утверждает, что вообще его не читал, равно как и прежние, но даю честное слово, – а люди, которые меня знают, могли бы засвидетельствовать, что никогда не слыхали от меня лжи, – даю честное слово, что разговоры, записанные мною в четырех томах, это, если можно так выразиться, стенографические записи, передающие не только мысли разговаривавших, но большею частью и их слова. Я верю, что читатель умный и непредубежденный согласится, что моим искренним желанием было представить настоящими тех людей, портреты которых я писал, и что ни за что на свете я не захотел бы приписать им слова, каких они не говорили.
Господин Ренан называет меня "господином с длинным языком". Я принимаю упрек и ничуть этого не стыжусь, тем более что мой "длинный язык" повинен не в разглашении сведений о частной жизни людей, а всего лишь в обнародовании мыслей и идей моих современников, документов интеллектуальной истории века… Да, повторяю еще раз, я ничуть этого но стыжусь. Ибо с тех пор, как существует мир, все мало-мальски интересные мемуары были написаны только теми, у кого был "длинный язык"; мое преступление состоит только в том, что я еще жив, хотя прошло целых двадцать лет с того времени, когда из-под моего пера вышли эти записи; но, по-человечески говоря, не могу же я испытывать угрызения совести из-за того, что еще жив».
9 ноября, воскресенье. Благоговение молодых писателей перед теми произведениями литературы, которые берут действующих лиц и обстановку из прошлого, благоговение, заставляющее их предпочитать «Госпоже Бовари» «Саламбо», – напоминает мне почтительное изумление зрителей райка на представлениях с действующими лицами и обстановкой нашей дореволюционной монархии.
27 марта, пятница. О, как несчастлив тот, кто, как я, наделен чуткими нервами, улавливающими всё, что творится в душе моих близких, подобно тому как больное тело бессознательно ощущает малейшие колебания температуры в окружающей среде! Так, например, по голосу Доде я сразу угадываю, правду ли он мне говорит, истинны ли добрые известия, которые он мне приносит, или это пустые слова, сказанные по дружбе, чтобы доставить мне радость, залечить мои раны, польстить мне, – всё, что угодно, кроме правды.
2 апреля, четверг. Обед у Золя, данный им в день его рождения. Ему сегодня 51 год. Доде был за столом мило задорным. Он говорил, какой хороший «торговец счастьем» мог бы из него выйти: он уверяет, что, расспросив человека о его темпераменте, его вкусах, его среде, он способен сразу понять, какое счастье ему нужно.
7 апреля, вторник. Да, она сохраняется и у стариков, эта внутренняя радость, которую испытываешь, когда ложишься спать после хорошего рабочего дня.
11 апреля, суббота. Свобода и дешевизна жизни – вот что должно было дать нам республиканское правительство. А между тем правительство нашего времени принимает те же свободоубийственные меры, что и прежнее. Приведу как пример хотя бы театральную цензуру… Что же касается дешевизны, то жизнь в Париже, да и в провинции, стоит сейчас почти в десять раз дороже, чем при Луи-Филиппе.
19 апреля, воскресенье. Доде говорил мне сегодня вечером о том, как он несчастен с тех пор, как не ходит пешком и не может помогать бедным. «Да, – отвечает он жене, напоминающей ему о добрых делах, которые они по-прежнему делают вместе, – да, правда, но это не то, в этих добрых делах я уже не играю роли Провидения, сверхъестественного существа, если хочешь, являющегося бедняку, бродяге, нищему, встреченному на дороге».
И он рассказывает, необыкновенно мило и с тем остроумием, которое идет от сердца, как однажды темной ночью измученный бродяга свалился у фонтана против дома его тестя, в Шанрозе; как этот бедняк в тоскливой неуверенности вопросительно смотрел на перекрестке то на одну, то на другую дорогу, сомневаясь, в конце которой из них больше надежды на ужин и ночлег; как он, наконец, отважился выбрать одну, сделал несколько шагов – и вернулся, обескураженный…
Тогда, именно в ту минуту, Доде завернул в бумажку пятифранковую монету и бросил ему из-за притворенных жалюзи. Представьте себе ошеломление несчастного при виде крупной монеты, найденной в бумажке, и вопросительные взгляды, которые он бросал на темный безмолвный дом, и поклоны наудачу в окна, и мгновенное исчезновение из боязни, что то была ошибка и его вернут назад!..
19 мая, вторник. У человека, обладающего артистическим вкусом, вкус этот не ограничивается живописью; у него есть вкус и в фарфоре, и в чеканке, и в переплете – во всем, что имеет отношение к искусству. Скажу больше, вкус сказывается даже в оттенке его панталон. А господин, считающий себя любителем картин, единственно картин, и считающий себя знатоком искусства, – просто болтун, без истинной любви к искусству, напустивший на себя вид только для шику.
31 мая, воскресенье. На «Чердаке» разговор опять возвращается к завоеванию французской литературы иностранною. Констатируем у современной молодежи склонность ко всему туманному и таинственному и презрение к ясности. По поводу этого переворота, совершившегося в умах, Доде делает любопытное сообщение о том, что раньше во французских коллежах самый «шикарный» курс был курс риторики: тут были и знаменитые профессора, и воспитанники, предназначавшиеся для великого будущего; после же войны с Германией и симпатии, и популярные профессора перешли на курс философии.
Мы с Доде чувствуем себя униженными, глядя на нашу литературу – онемеченную, обрусевшую, обамериканившуюся. Но Роденбах [146] возражает нам, замечая, что, в сущности, такого рода влияния в литературе полезны, что они-то и питают литературу, что через некоторое время, когда эта пища переварится, чужеродные вещества, усилив нашу мысль, исчезнут в общем организме.
От этих заимствований мы переходим к изворотливости нашей современной молодежи, которая в