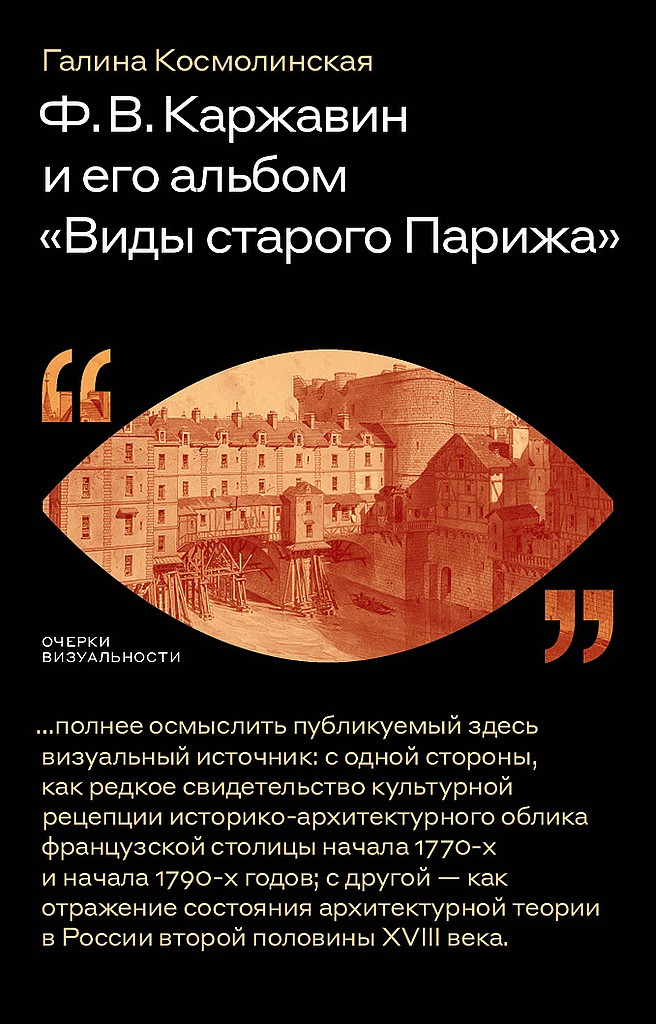С этой целью в декабре 1756 года Федор был определен в янсенистский «пансион г-на Савуре на улице Копо» с установленной платой за содержание «до 600 ливров» в год [86].
Жан-Луи Савуре (Jean-Louis Savouré, 1705–1770) — бывший профессор университетского коллежа Святой Варвары (Sainte-Barbe), покинутый им из‐за несогласия с системой преподавания иезуитов, победивших в теологическом споре, инициированном кардиналом де Флëри с целью изгнания янсенистов из Сорбонны. В 1729 году Савуре основал частное учебное заведение и пансион (Institution Savouré) под идейным патронажем бывшего ректора Сорбонны Шарля Роллена [87]. Вплоть до 1770‐х годов пансион размещался на улице Копо (Copeau, совр. rue Lacépède) в здании, имевшем выход через сад прямо к дому Роллена на улице Нëв Сент-Этьен (совр. rue Rollin) [88]. Пансионеры Савуре ходили обучаться в коллеж Бове (ил. 7) на улице Сен-Жан-де-Бове (совр. rue Jean-de-Beauvais), остававшийся в то время последним оплотом янсенизма в университете [89].
Ил. 7. Коллеж Бове, рисунок 1861 г.
В коллеже Бове Каржавин в течение четырех лет был довольно успешен и дважды даже избирался для соискательства университетской премии, которую Парижский университет ежегодно с большой торжественностью «в присутствии парламента» вручал способнейшим молодым людям из всех коллежей [90]. Князь Д. М. Голицын, в 1760‐м лично инспектировавший знания Каржавина, доносил в Коллегию иностранных дел, что «из сего молодого человека может быть со временем искусной профессор» [91].
В сентябре 1761 года Эриссан, к которому Коллегия отнеслась весьма благосклонно, продлив его опекунские полномочия [92], поместил своего подопечного в дом профессора греческого языка и литературы Королевского коллежа Жана Вовилье [93]. Каржавин вынужден был провести в пансионе Вовилье год и девять месяцев (до мая 1763), находя свое положение там несносным. Пытаясь бунтовать, он убеждал отца, ревностно следившего за его успехами в учебе, в нерадении опекунов к его образованию:
В своих последних письмах я подробно обрисовал вам жалкое положение, в котором нахожусь, каков план моих занятий и как неточно он выполняется <…> Я должен был изучать философию, геометрию, алгебру, математику, географию, историю, рисование, английский, немецкий, итальянский, учиться танцевать, заниматься фехтованием, верховой ездой и т. д. В течение 10 месяцев, что я нахожусь у г-на Вовилье, я еще не начинал ничем заниматься. Изучаю я только философию в коллеже, и это все. <…> В будущем году меня не заставят делать больше, чем в нынешнем, под тем предлогом, что мне надлежит сделаться магистром искусств в октябре 1763 года. Мне надо будет повторить всю философию, а это потребует много времени, хотя и не сделает меня более ученым <…> [94]
«Жалкое положение», в котором русский студент оказался в Париже, отчасти было следствием распоряжения Коллегии (и лично канцлера Воронцова), позволявшего Эриссану единолично распоряжаться жалованьем своего подопечного [95]. Разумеется, Каржавин не мог быть этим доволен. К тому же он был уверен, что опекуны (Эриссан и Вовилье) дезинформировали Василия Никитича насчет его поведения и состояния дел в учебе, и всеми силами пытался настроить против них отца. Жаловаться на ущербность учебной программы было единственно правильной тактикой, которую он и выбрал.
Между тем наибольшее возмущение семнадцатилетнего юноши вызывали строгие запреты, окружавшие его в пансионе. Ведь еще ребенком он приохотился посещать с «дядюшкой» парижские театры и парки, осматривать книжные лавки, «публичные библиотеки и кабинеты ученых» — знакомиться со всем, «что было примечательного в Париже» [96]. И такой образ жизни доставлял ему огромное удовольствие: «Всякой день гулящей [т. е. выходной. — Г. К.] гулять хожу с дядюшкой в поля и в сады королевские, — писал мальчик отцу. — В Париже мне жить весело, да веселее бы мне еще было ежели бы ты, матушка, братец, да сестрицы сдесь со мной были» [97].
Порядки в пансионе становились несносными для Каржавина по мере его взросления. Юношу возмущали запреты выходить одному из дома, гулять по городу, посещать друзей и даже богослужения в доме русского посланника графа П. Г. Чернышова. О развлечениях не могло быть и речи. Он жаловался отцу: «<…> г-н Вовилье прогнал бы меня, а г-н Гериссан измучил бы своими глупостями, если бы узнали они, что я хоть единожды побывал в Комедии и на других спектаклях» [98]. И сокрушался, явно сгущая краски, что по возвращении в Петербург не будет «иметь и понятия о том, что такое Париж, Версаль и французский двор», и станет «настоящим разиней, который, где ни появится, всему дивится» [99].
Недостаток свободы ему отчасти возмещали книги. «Чтение — моя страсть, — не боялся признаваться Федор в книжных тратах, уверенный, что отец его не осудит. — Вы мне поверите, насколько я люблю хорошие французские книги и книги любопытные» [100]. Из своих скудных средств он выкраивал деньги на приобретение французских изданий «по философии, физике, ботанике, хирургии, химии» и особенно гордился, что сумел заполучить вышедший пятью годами ранее «труд барона Страленберга о Российской империи [101], переведенный на французский язык с немецкого г-ном Барбо, близким другом дядюшки и моим также» [102].
В некрологе Барбо де ла Брюйера (1781) действительно сообщалось, что к работе над переводом Страленберга переводчик привлек двух «молодых русских, находившихся под его опекой» [103], — это были Ерофей Каржавин и его совсем еще юный племянник. Так мы узнаем об опеке, которая при явно недостаточной поддержке из России стала еще одним источником существования Каржавиных в Париже, по-видимому, немаловажным:
Около 1756 года он [Барбо де ла Брюйер] бесчисленное количество раз хлопотал, чтобы упрочить положение во Франции двух молодых русских, которые покинули свою страну, движимые любовью к знаниям; и хоть сам он не был обеспеченным человеком, пожертвовал им свою ренту в 400 ливров — единственное богатство, доставшееся ему от отца <…> [104]
Мы не знаем, была ли эта выплата разовой или неоднократной, передавалась ли сумма в руки подопечным (что маловероятно) или была израсходована на их содержание, жилье, стол, одежду, обучение. Но в контексте наметившегося после 1755 года сближения между Россией и Францией сотрудничество с носителем русского языка при подготовке издания «труда Страленберга о Российской империи», очевидно, представлялось достаточно важным — требующим вознаграждения.
Примечательно, насколько велика была в это время государственная надобность в людях типа Ерофея Каржавина и как непросто было найти их в Париже: «<…> ибо не находится такой россиянин, который владел бы нашим языком и был бы расположен обосноваться во Франции», — писал в том же 1755 году