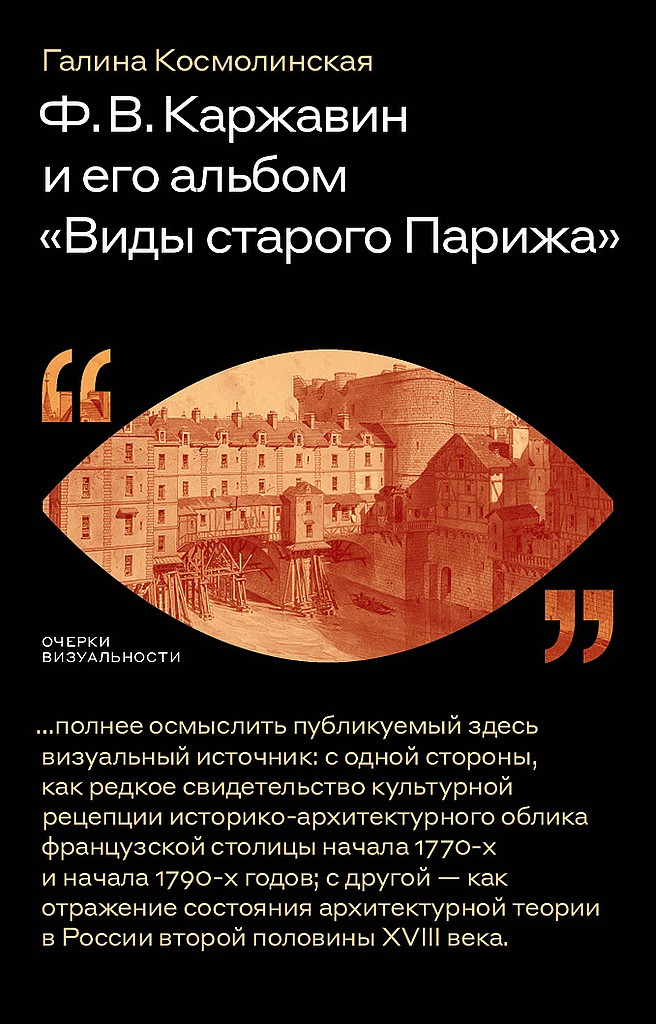француской», в связи с чем «нижайше просит» об увольнении на год «для исправления себя в российском языке» [125]. Возможно, ему просто был нужен предлог, чтобы уволиться.
Еще находясь в Париже, Каржавин откровенно тяготился службой в Коллегии и своим положением при миссии, где к тому же сумел нажить себе недругов, распространявших о нем неблагоприятные слухи. Постоянно оправдываясь перед отцом, он писал, что готов стать кем угодно, буквально «чистильщиком сапог», лишь бы не служить в Коллегии или канцелярии, где достаточно настрадался «от людей, которые подвизаются при министрах и вельможах» [126]. Положение осложнялось хроническим безденежьем: жалование, причитавшееся студенту Парижской миссии, подолгу задерживалось [127], к тому же из него вычиталось по 100 рублей в счет долга его бывшему опекуну Эриссану [128]. Старший сын и наследник богатого купца с трудом сводил концы с концами, чтобы оплатить свои долги: «<…> продал я все вплоть до постели, а сам спал в течение 3‐х месяцев на соломе», — писал он отцу, рассчитывая найти у него сочувствие и поддержку [129]. Возможно, порой он и сгущал краски, но сомневаться, что жизнь его в Париже была нелегкой, не приходится.
Последние два парижских года были в материальном отношении особенно трудными; почти в каждом письме Каржавин просил отца вызвать его в Россию. А зимой 1764 года сообщал о якобы полученном предложении сопровождать маркиза де Боссе, назначенного посланником в Санкт-Петербург. В результате от предложения — «с условиями выгодными и почетными для меня» (!) — он вынужден был отказаться, поскольку побоялся возвращаться «без официального вызова» [130]. Еще через год он буквально молил отца: «Отчаяние, в которое повергает меня нищета, принуждает меня просить вас немедленно вызвать меня в Россию» [131]. Наконец, 21 января 1765 года из Коллегии поступил рескрипт, предписывающий «немедля отправить в Санктпетербург студента Федора Каржавина на первых из Франции выходящих кораблях» [132]. В мае князь Д. А. Голицын смог отчитаться об исполнении:
<…> отправил я уже отсюда студента Федора Каржавина <…> Ныне пребывает он еще в Руане, ожидая отхода корабля, которой пойдет в море чрез несколько дней. На том же судне имеет також возвратится бывшей здесь и в Италии для обучения архитектуре Божанов [133].
Ил. 11. Картуш перед казнью в тюрьме Консьержери (1721)
20 июля 1765 года двадцатилетний Каржавин вернулся в Санкт-Петербург и, как уже упоминалось, почти сразу по прибытии испросил в Коллегии годовой отпуск «для обучения российского языка», забытого им за тринадцать лет пребывания во Франции [134]. Видимо, сначала в учебных целях он взялся копировать «Прохладный Вертоград», рукописный лечебник, принадлежавший «полицейскому асессору Ф. Ф. Вындомскому», но успел переписать только 73 листа, «потому что воспотребовали назад оный лечебник» [135]. Тогда же он предпринял перевод жизнеописания парижского разбойника Картуша (ил. 11) [136] — выбор для упражнения в русском языке, казалось бы, странный. Однако можно предположить, что двигал им не столько вкус к авантюрной тематике, сколько коммерческий расчет: соотечественникам Каржавина еще только предстояло познакомиться с этим французским бестселлером, породившим шквал литературной продукции по всей Европе [137]. Впрочем, расчет, видимо, не оправдался, а рукопись перевода в настоящее время считается утраченной [138].
Продолжать службу в Коллегии иностранных дел Каржавин явно не планировал и через год подал прошение об отставке, в котором признавался, что «выучить фундаментально благоискусство российского языка и спознать все [его] совершенство» ему не удалось [139]. Не видя для себя в Коллегии достойного применения знаниям, приобретенным во Франции, он предпочел стать преподавателем французского языка в семинарии Троице-Сергиевой лавры. Прошение было удовлетворено; при увольнении «студента Коржавина» удостоили низшим чином коллежского актуариуса [140]. Мотивы столь поспешного каржавинского шага нам доподлинно неизвестны. Сам он через 22 года изложил свою версию увольнения из Коллегии в официальной автобиографии:
<…> убежденный отцем моим, получил в 1766 г. увольнение от оной колегии вовсе, с чином колежскаго актуариуса, но как желание отца моего, при увольнении моем из колегии, было такое, чтобы сделать меня купцом, а чин офицерской не позволял уже мне быть таковым, того ради старался я сделать себя полезным, по знанию моему <…> [141]
За этой, казалось бы, обычной житейской коллизией просматривается глубокий культурный, социальный и поколенческий конфликт, имевший для Каржавина самые серьезные последствия. Противостояние между отцом и сыном зрело неуклонно по мере того, как расходились их представления о жизни. Василий Никитич, на самом деле трогательно любивший своего первенца [142], не мог не почувствовать перемен, происходящих с ним на чужбине. Но по-настоящему забил тревогу он только после возвращения своего младшего брата Ерофея Никитича, о котором с обидой писал Федору: «увидя себя против меня в лутчем градусе, начел [он] меня пренебрегать» [143]. Из опасения, как бы подобные перемены не произошли и с «Федюшей», заранее предупреждал: «ежели <…> меня презирать станешь, то <…> ты мне не сын, а я тебе не отец» [144]. Предчувствия оправдались, когда вернувшийся из Парижа сын восстал против родительской воли, отказавшись идти по коммерческой части, и предпочел «вступить в московские школы» профессором французского языка.
Иного способа отстоять собственный выбор у младшего Каржавина, очевидно, не было, хотя он мучительно искал его. Среди записей тех лет сохранились его размышления о «необузданной власти отцов над своими детьми», сделанные по ходу чтения речи профессора юриспруденции С. Е. Десницкого [145], недавно возвратившегося из Глазго после стажировки в местном университете. Каржавин, называвший Десницкого своим другом, прислушивался к его мнению. Пытаясь осознать собственный горький опыт, он искал опору в рассуждениях юриста о причинах деспотизма и в частности — деспотизма родительской власти, который «примечается <…> у всех народов, когда они в невежественном и варварском состоянии находятся» [146]. Но одного понимания «причин» было явно недостаточно. Сыновнее чувство нуждалось в нравственной опоре, которую, соглашаясь с Десницким, Каржавин склонен был видеть в идее прогресса: «Однако она [„необузданная власть отцов над детьми“] у нынешних просвещенных и вычищенных [то есть — цивилизованных] народов уменьшается и быть много вредною не может» [147].
Другой аспект этого конфликта заключался в том, что поспешным, возможно вынужденным, увольнением из Коллегии иностранных дел Каржавин лишал себя главной, если не единственной возможности повышения своего социального статуса, предоставляемой государственной службой. Было бы неверно думать, что вольнолюбивого питомца Сорбонны подобные вещи вовсе не волновали. Время от времени, как и