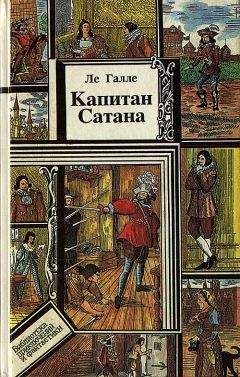Причем особенно привлекает меня одно его уникальное, ныне почти вытравленное качество, которому мы с вами обязаны многим, в том числе и появлением на свет Гийома дю Вентре. Харон в одном из писем так определил интересующее меня свойство: «…удивляться хоть какой эрудированности не полагалось:
это свидетельствовало бы о собственном невежестве, а в те годы невежество считалось еще предосудительным». Жажда знать и умение учиться — вот главные приметы тех, кто родился между 10 и 17 годами двадцатого века. Я кинорежиссер, а не обществовед и потому не берусь судить, чтб породило эту черту: то ли детство, совпавшее с величайшими социальными катаклизмами, то ли еще не выветрившийся дух академического знания, в конце концов этими катаклизмами вытравленный,— во всяком случае, большинство людей этого поколения обладали совершенно недоступным мне спектром человеческих знаний. И ведь никак не скажешь, что жизнь их к этому подталкивала наличием каких-то особо благоприятных условий — скорее наоборот. Харон, с его тремя курсами Берлинской консерватории и немецкой гимназией, где он влюбился в генетику,— скорее исключение, чем правило. Но ведь не там же его учили устройству двигателя внутреннего сгорания или технологии литейного дела? А Вейнерт? Вейнерт, который первый раз отправился в ссылку сразу после окончания девятилетки, кончил в промежутках между отсидками ФЗУ и один курс Ленинградского института железнодорожного транспорта? Его университеты, правда, более разнообразны: «В это время я была у него в Малой Вишере,— вспоминает его мать, Ядвига Адольфовна,— маленький городишко, скорее село, деревенские домики, грязь, не мощеные дороги, и на каждом шагу то научный сотрудник Эрмитажа, то известный историк, то профессор университета — «бывшие». Или о свидании в Мариинске: «…Юра, самый младший из группы ссыльных, был тепло встречен. Сначала все были на общих работах, тащили из замерзшей земли турнепс и свеклу, потом были на строительных работах. В группе строителей счастливо сочетались: архитектор, музыкант и художник-живописец. Жадный на всякие знания, особенно по разным видам искусств, Юра оказался благодарным учеником. Глотал, пожирая, все, о чем говорилось, вырабатывал свою точку зрения, свой собственный вкус…»
Но ведь не уникумы они двое, хотя такого диапазона знаний и умений и в этом поколении достигали немногие. Ведь и мое поколение уважение к чужому умению и даже восторг перед ним сохранило, вспомним хоть Беллу Ахмадулину: «Чужое ремесло мной помыкает». Но восторг перед чужим мастерством не был связан с потребностью освоить его. А вот Харон в книге пишет: «Всю жизнь, сколько я себя помню, это казалось мне величайшим счастьем — уметь что-то делать. Не как-нибудь, не тяп-ляп, а по-настоящему, красиво, легко, свободно, виртуозно. Разницы в профессиях для меня в этом отношении просто не существовало. Красивая работа столяра или пианиста, токаря или живописца, слесаря-лекальщика или хирурга — все мне казалось равно прекрасным и вызывало горячую зависть. «Вот бы мне так» — пожалуй, наиболее постоянный лейтмотив моих заветных дум и мечтаний в течение долгих лет, чуть ли не всей жизни». В начале своего предисловия я уже говорил о некоторых умениях звукооператора Харона: скажем, хромировать бабки или заделывать лунки под взрывчатку; из книги вы узнаете о многих других: делать противостолбнячные уколы и играть Моцарта на рояле сухо, «без чювства»,— как на клавесине, дирижировать началом 8-й симфонии Брукнера и учить школьников физике и математике; от себя могу добавить и те, о которых в книге не нашлось места упомянуть: сочинять коктейли, печатать на машинке, писать зубодробительные статьи о природе кинодраматургии и серьезные исследования о природе звука. И это еще далеко не всё. Наверное, только на крутом переломе эпох рождаются поколения, которым так щедро отпущен талант всему научиться, суметь всё, что потребует от них жизнь. Но уж зато и требования были под стать эпохе: война, лагеря, великая коллективизация, великая индустриализация. Их эпоха не давала им, да и сама не знала, передышки — может быть, поэтому меньше всего они были философами. Если они. чувствовали разрыв между перенасыщенностью времени и неустроенностью души — они писали стихи.
***
Харон был арестован летом 1937 года. Двадцать три ему исполнилось уже в Бутырской тюрьме. Юрий Вейнерт — в очередной раз — двумя годами раньше. Если об обстоятельствах ареста Харона вы прочтете в этой книге, то аналогичные обстоятельства в жизни Юры Вейнерта заслуживают того, чтобы о них рассказать в предисловии, тем более что вместе с ними войдет в наше повествование и маркиза Л., которой посвящены многие лирические сонеты будущего Гийома дю Вентре.
Итак, молодой человек влюбился в девушку, отношения их были возвышенны и несколько литературны, потом она познакомила его со своей подругой, и тут произошло то, чему наилучшее описание мы находим у М. А. Булгакова: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих». Подругу звали Люсей — это имя не раз еще встретится вам на страницах книги. Молодой человек, уже имевший к тому времени две ссылки за плечами, отличался тем не менее романтической порядочностью, которая оказалась свойственна и двум подругам, составившим остальные вершины любовного треугольника, тем более напряженного, что подруги жили в одном городе, а юноша — в другом.
Все друг другу во всем признались, благородное желание сохранить дружбу и свойственная юности того поколения страсть к самопожертвованию породили общую для троих душевную смуту. А в результате — объяснение подруг и самоотреченная совместная телеграмма предмету их разделенной любви: «Мы свободны будь свободен и ты». Вот за эту телеграмму его и арестовали.
Когда в стихах дю Вентре и комментариях Харона вы будете часто встречаться со словом свобода, пусть не будет забыт вами текст этой телеграммы.
Вообще, как вы уже, видимо, заметили, слово «свобода» и его производные витают над этой историей как призрак судьбы и как парадокс времени. Так и хочется вспомнить дю Вентре:
Пять чувств оставил миру Аристотель.
Прощупал мир я вдоль и поперек
И чувства все порастрепал в лохмотья —
Свободы отыскать нигде не мог.
Пять чувств всю жизнь кормил я до отвала,
Шестое чувство — вечно голодало.
***
Так что же они такое — эти стихи, рожденные «во глубине сибирских руд»? Откуда они, какова их не только человеческая, но литературная ценность, к каким образцам восходит их поэтическая генеалогия, и, наконец, как вообще могли они появиться на свет в зауральском лагере с их латынью и французским, с их Шатильонами и Жаками Бономами, с Гасконией и Дуврскими скалами? Что в них всерьез, а что игра? Они — порыв истинного поэтического чувства или упражнения изощренного ума?