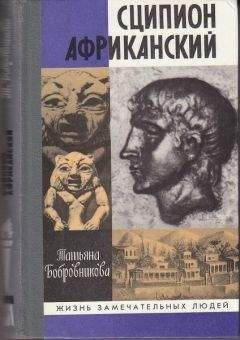А вот другая картина. Две молодые женщины, родные сестры, мужья которых уехали далеко за море и уже три года, как пропали без вести. Старшая из сестер, видимо, пала духом. Она горько жалуется на судьбу и сравнивает себя с несчастной Пенелопой. Младшая, кроткая и вместе твердая, возражает: «Что ж, это наш долг. Мы делаем только то, что велит любовь». Новая тяжкая забота терзает старшую. Что, если мужья покинули их и давно им изменили? Младшая спокойно утешает ее и говорит, что они должны быть верны своему долгу, что бы ни случилось; даже если мужья перед ними виновны, ну что же, они не должны подражать им в этом (Plaut. Stich.).
Участь Эмилии очень напоминала судьбу этих героинь Плавта. Но она была много несчастней большинства римских матрон: ведь у других мужья возвращались хотя бы раз в год, Публий же был в Испании безвыездно четыре года, а вернувшись, почти тотчас же вновь уехал. Из двух плавтовских сестер Эмилия, конечно же, более напоминала младшую: молва говорила, что она безгранично любит мужа, способна простить ему любую измену и будет только терпеливо ждать, когда он к ней опять вернется.{46}
Существует мнение, что в первой пьесе «Амфитрион» изображена семья Сципионов.[103] Но пока это остается только предположением. Зато вторая пьеса о двух сестрах имеет к победителю при Заме прямое отношение. Она поставлена в 200 году до н. э., когда повсюду гремели торжества по случаю возвращения Сципиона.[104] Нетрудно догадаться, что мужья молодых героинь, уехавших за море на три года, — это участники Африканского похода Публия, продолжавшегося как раз три года. Пьеса очень отличается от обычных комедий Плавта. Там нет ни завязки, ни интриги. Содержание комедии предельно просто: женщины с тоской ждут мужей, вот наконец они приезжают, и наступает безудержное, бесшабашное веселье. Господа и рабы вместе пляшут от восторга.
Такая же невероятная радость пришла в семью Сципиона. Эмилия не могла и не хотела скрывать своего счастья. Она сбросила мрачные темные одежды, которые носили римлянки со времени каннской катастрофы, и нарядилась в светлые яркие платья. Ее выезд поражал своим великолепием. Полибий видел ее. Он пишет: «Эмилия… выступала с блеском и роскошью в праздничных шествиях женщин, как и подобало римлянке, делившей жизнь и счастье со Сципионом» (Polyb., XXXII, 12, 3).
Как я уже говорила, боги благословили брак Публия и Эмилии, и у них родилось четверо детей — два мальчика и две девочки. Они получили самое изысканное греческое образование. Гай Лелий, по-видимому, деливший с другом не только боевые труды и тревоги, но и увлечения в дни мира, дал своему единственному сыну столь же блестящее воспитание.
* * *
Итак, Сципион ушел от общественной жизни. И все-таки, хотя он молчал и ни во что не вмешивался, его присутствие незримо ощущается повсюду. Такой яркий человек одним своим существованием влиял на окружающее общество. Его взглядам изумлялись, его слова повторяли, ему подражали тысячи восторженных поклонников, за ним ходили толпы любопытных, его воспевали поэты. Вся эта эпоха проходит под знаком Сципиона. На всех предметах лежит его отсвет. Более того, он подобен волшебнику из сказки, который, войдя в темную, мрачную горницу, разом превращает ее в сияющий, великолепный чертог. Так изменился и сам Рим.
Целых полтысячелетия римляне беспрерывно вели тяжелые, упорные войны со своими воинственными соседями. Мужчины несли постоянные тяготы и лишения, подчиняясь неумолимо суровой дисциплине. А в результате они не наживали богатств. Их соседи были почти так же бедны, как и они сами. Каждый клочок земли стоил трудов, страданий, многих лет войны. Римляне выходили из войн нищими. Рассказывают, что победитель Пирра Маний Курий сам варил себе репу в простом горшке, когда явились послы самнитов подкупать его золотом, а Цинциннат пахал, когда его выбрали диктатором. Если и есть преувеличения в этих рассказах, то все же они верно передают дух той бедной, суровой эпохи. «Воинственным и диким племенем Ромула» назвал своих соотечественников один из первых римских поэтов[105] (Gell., XVII, 21, 46).
Хлеб свой добывали они тяжким трудом на полях. «Мужественные потомки воинов-пахарей, привыкшие взрыхлять землю сабельскими[106] мотыгами и таскать вязанки хвороста, исполняя волю суровой матери, в час, когда тени от холмов становятся длинными, и усталых быков выпрягают из упряжки, и солнце, удаляясь в своей колеснице, приносит сладостное время отдыха» (Hor. Carm., III, 6, 37–44). Сами римляне называли жизнь свою грустной и суровой. Они не знали ни изысканных удовольствий, ни развлечений, ни обаяния тонкой красоты, которой поклонялись эллины. Город их поражал не только греков, но и соседей-кампанцев своим мрачным, унылым видом, кривыми улочками и бедными, уродливыми домами. «Рим и не имел, и не знал ничего красивого, в нем не было ничего привлекательного, радующего взор: переполненный варварским оружием и окровавленными доспехами, сорванными с убитых врагов, увенчанный памятниками побед и триумфов, он являл собой зрелище мрачное, грозное и отнюдь не предназначенное для людей робких… Рим в то время можно было назвать святилищем неукротимого воителя Ареса» (Plut. Marcell., 21).
Действительно, дома были некрасивы и мрачны. Внутренних садиков, где эллины любили проводить время среди цветов и освежающих фонтанов, у римлян не было. Не было красивых галерей, статуй и ярких мозаик. Дом состоял из низких клетей и большого атриума,[107] главным украшением которого был громоздкий шкаф с восковыми масками умерших предков и кровавые доспехи убитых врагов. Этими мрачными трофеями римляне очень гордились и, несмотря на государственные запреты, увешивали ими свои жилища. Конечно, изящной мебели и картин не было и в помине.
Развлечений было до удивительного мало. В гости ходили нечасто, и, подобно тому, как отец семейства сам пахал, мать самолично стряпала простой, бедный обед. Дорогих вин и изысканных закусок тогда не знали. На особо торжественных пирах мальчики воспевали воинские подвиги предков (Cato, Orig., fr. 118).
Кроме зрелища торжественных воинских триумфов, когда по Священной дороге проезжал победитель в золотой колеснице, запряженной белыми конями, в блестящей одежде Юпитера Небесного, а за ним под звуки флейт несли добычу, глубокое впечатление на римлян производили церемонии при похоронах знатных людей. Когда умирал кто-нибудь из знатных граждан, тело его со всеми знаками отличия несли в погребальном шествии на Форум. За ним в траурных одеждах следовали все его друзья и родственники. Но не они одни. Как мы говорили, в доме римлянина хранились восковые маски его умерших предков. И вот во время похорон за гробом шли люди, наиболее схожие с предками видом и ростом, надев их маски. «Люди эти одеваются в одежды с пурпурной каймой, если умерший был консул или претор… или в шитые золотом, если он был триумфатор… Сами они едут на колесницах, а впереди несут пучки прутьев, секиры и прочие знаки отличия». Все это фантастическое шествие медленно двигалось к ораторскому возвышению, Рострам. Здесь оно останавливалось. Предки сходили с колесниц и рассаживались вокруг в креслах из слоновой кости. Покойного поднимали на Ростры и ставили на ноги, лицом к площади. Сын или ближайший родственник умершего поднимался за ним на Ростры и произносил речь, восхваляя подвиги умершего. Затем он обращался к предкам и прославлял каждого из них, одного за другим. Народ слушал в благоговейном молчании, и в памяти всех воскресали деяния далекого прошлого и недавнего настоящего (Polyb., VI, 53–54, 1–2). Это торжественное, странное и печальное зрелище должно было глубоко поражать воображение людей.