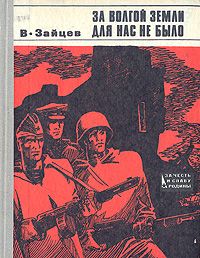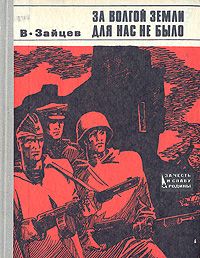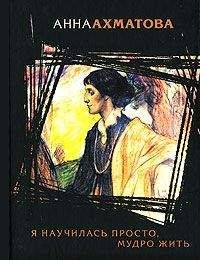class="p1">
Чтение книги Е. Эткинда — трудное дело, откровеннее говоря — скучное дело. Можно было бы написать о том, о чем написал Е. Эткинд, гораздо короче, интересней и убедительней, а можно было и еще длиннее, и менее убедительно. Е. Эткинд стоит на втором пути.
Нет, читатель не упрекнет его в незнании стихов, в отсутствии эрудиции. Стихи автор книги знает, может, наизусть, может, пользуясь библиотекой, работая над рукописью. Это — частность.
Что же все-таки главное? А главное состоит в том, что работа Эткинда несет в себе удивительную, прямо напорную силу отпугивания молодого читателя от поэзии. Она не помогает ему дышать объемным воздухом ее назначения, а паталого-анатомически расчленяет ее на понятия, носящие частный, не определяющий ее миссии характер. Она делает то, что, скажем, неловко делать: стоя над расчлененным телом бывшего человека, упоительно и долго говорить о великом предназначении Человека и Человечества.
Когда тебя поносят, это всегда неприятно. Читая эти строки, я испытывал не столько обиду, сколько изумление. Кто же это пишет? Понимает ли он сам, что его рецензия пародийна? «Можно было бы написать… гораздо короче, интересней и убедительней, а можно было и еще длиннее, и менее убедительно. Е. Эткинд стоит на втором пути». Ну, всегда можно и короче и длиннее, — сто́ит ли это констатировать? Однако на каком пути стоит Е. Эткинд? Он пишет «и еще длиннее, и менее убедительно», чем сам написал? «Работа Эткинда не помогает читателю…» Что? Что? Вчитываюсь, читаю несколько раз, и все равно понять не могу: «…дышать объемным воздухом ее назначения». Впрочем, одно несомненно: рецензент бешено зол, его от злости даже заносит… Дальше идет художественная иллюстрация — не буду ее пропускать: она обнаруживает уровень моего оппонента:
У хорошего сегодняшнего русского прозаика Евгения Носова в повести «Моя Джомолунгма» есть прекрасная мысль: сам человек, искалеченный войной, б_е_з_н_о_г_и_й, но оставшийся сильным и мужественным, говорит своему собеседнику:
«— Я ведь тоже когда-то в школе, как и ты, изучал человека, — сказал он, усмехнувшись. — Зубрили всякие позвонки, внутренности. Разбирали всего по косточкам. Малая берцовая, большая берцовая… Всего обшарили на макете. Черта с два! Разве из этого состоит человек! Он, брат, из чего-то другого.
Иван сидел передо мной, как птица, жилистыми пальцами обхватив края стула, и я, размышляя над его словами, вдруг поразился остроте его мысли: в нем самом не осталось ни большой, ни малой берцовой кости, а человек в нем остался».
Этого Человека — П_о_э_з_и_ю читатель в работе Эткинда не увидит, увидит одни «берцовые»…
Сравнение с «Моей Джомолунгмой» странное: в самом деле, человек состоит не из одних «берцовых», но ведь анатомия и не претендует на то, чтобы заменить собою, скажем, психологию. Разве тот несомненный факт, что человек — не одни кости, делает анатомию не-наукой или наукой вредной, формалистической? Удивительно, почему рецензент не подумал об этом? Чего он хочет? Да ведь и, кроме того, моя книга не останавливается на разборе «берцовых костей» и например, метра и ритма, а предлагает читателю целостный анализ стихотворений. Только «целостный» без анатомии — невозможен…
У нас о поэзии написано немало, Кое-какие библиографические ссылки Е. Эткинд делает. Но поразительно, что в этих ссылках нет ни словечка упоминания даже о таких действительно серьезных работах в области теории стиха такого поэта, как Александр Коваленков, хотя студенчество — творческое студенчество Литинститута им. Горького — около двух десятков лет училось на его работах. Нет ни слова о глубоких, действительно великолепных раздумьях о поэзии таких поэтов, как Мих. Луконин, Вас. Федоров, С. Наровчатов, С. Васильев, К. Ваншенкин, выпустивших в последние годы интересные книги об этом.
Как может эрудированный автор не видеть, не заметить этого? Или он не знает об этих книгах? Или более того: каждый из названных мною поэтов в своей книге увязывает смысл поэзии с ее художественным и общественным назначением. Очевидно, это не забывчивость автора. Очевидно, здесь цель другая: вести разговор о ней именно в отрыве от главного — от содержания творчества поэта, от его общественного назначения. У Е. Эткинда нет анализа живой поэзии. У него воссоздан некий макет поэзии для «обшаривания», о котором упоминается в повести Носова. Странно — цель поставлена — л_ю_б_и_т_ь поэзию, живую и бессмертную, а предлагается для анализа некий макет ее.
Терминологическая угнетенность, злоупотребления понятиями, специфическими для цехового дела поэзии — вот главный объемный материал книги Е. Эткинда.
Мой безымянный, но сановный критик на этот раз прав. Я ни слова не сказал о книгах названных им авторов. Но скажу — теперь и здесь скажу. Кто такие — все эти люди?
Мы поименно вспомним всех,
Кто поднял руку.
Александр Галич. Памяти Б.Л. Пастернака.
Александр Коваленков. Он много лет преподавал молодым писателям в Литературном институте, сам писал стихи и выпустил несколько вульгарных сочинений о стихе. Я писал о них — в книге «Поэзия и перевод», вышедшей в 1963 году; собирался было полемизировать с Коваленковым, но понял, что эти «труды» того не стоять, и посвятил ему несколько иронических абзацев. Чему «творческое студенчество» у него научилось, можно себе представить по данной рецензии, — видно, ее автор тоже учился на «серьезных работах в области теории стиха» Александра Коваленкова. Добавлю, что с самим Коваленковым я был знаком во время войны — он служил «поэтом» в карельской фронтовой газете «В бой за Родину» и ничем не отличался, кроме фантастической памяти и политических доносов, по одному из которых был арестован (и едва не погиб) мой старший друг, ныне покойный критик Федор Маркович Левин. Коваленков написал во фронтовой «особый отдел», будто бы Левин ведет «пораженческие разговоры», не верит в победу, клевещет на советские вооруженные силы. По тем временам военный трибунал мог приговорить майора Левина к расстрелу, но Левину сказочно повезло: следователь, который вел его дело, оказался человеком порядочным: он сочувствовал старому коммунисту (с 1917 г.) Левину куда больше, нежели доносчику, и выручил казалось бы обреченного арестанта. Федор Левин, просидев около года в армейской тюрьме и уже успевший поработать на Беломорканале (дело происходило в городе Беломорске, на 19-м шлюзе канала), вернулся в редакцию «В бой за Родину» реабилитированным, а Коваленкову пришлось проситься в другую часть. Нет, не совесть его заела, а страх перед своими товарищами.
Вот кто