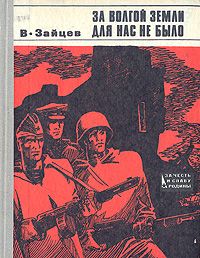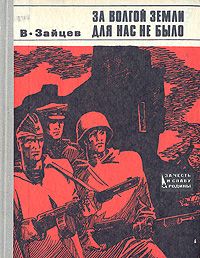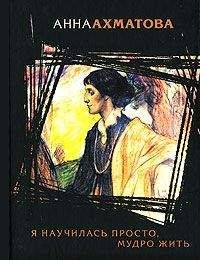«около двух десятков лет» обучал будущих писателей и на кого я в моей книге не ссылался. Музыканты всех стран поклялись не исполнять музыку Сальери, видя в нем не композитора, а убийцу Моцарта. Должны ли мы, литераторы, быть великодушнее?
Михаил Луконин. Поэт, автор нескольких сборников и книжки о собственных стихах. Не буду его обстоятельно характеризовать, приведу лишь несколько цитат из его доклада «Проблемы советской поэзии (итоги 1948 года)», опубликованного в журнале «Звезда» в светлой памяти 1949 году (№ 3):
«Пастернак удовлетворялся и дорожил только тем, что его признавал заграничный выродившийся хлам… Всю жизнь в нашей поэзии он был свиньей под дубом. Буржуазные эстеты и безродные космополиты на все лады прославляли юродивое и лживое творчество Пастернака только потому, что он щекотал их антипатриотические чувства, капал елей на их коленопреклоненные перед Западом души. Не случайно так вспыхнул среди формалистов и эстетов культ Ахматовой: Ахматова появилась, как магнит, и притянула к себе все ржавые опилки, весь сор в наших рядах». (стр. 185).
А вот из рассуждений Луконина о Заболоцком: «Автора обуревает какая-то душевная паника… Ложное, позерское отрешение от человеческого разговора, надуманная многозначительность… Никому не нужно это иконописное мастерство, рассуждения о стихиях и толпах, о мирозданьях и прочей символике. Нам нужен советский человек во весь рост, умный и гордый человек…» и т. д. (стр. 189).
Не ясно ли, почему у меня нет «ни слова о глубоких, действительно великолепных раздумьях о поэзии таких поэтов, как М. Луконин…»?
Сергей Васильев. Умер недавно и этот «сатирик», (как и два предыдущих персонажа), а, как известно, «aut bene…» Нет, С. Васильев (как и оба предыдущих) не заслужил даже того уважения, которого удостаивается смерть. Он — редкий образец откровенного охотнорядца. В свое время, в 1949 году, С. Васильев позволил себе — понимая безнаказанность! — прочесть в Союзе писателей юдофобскую поэму с прозрачным названием — «Без кого на Руси жить хорошо». В этой, с позволения сказать, «поэме» рассказывается («почти по Некрасову») о том, как
В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Советской нашей критики
сошлись и зазлословили
двенадцать злобных лбов.
Все эти «лбы» — космополиты, то бишь евреи, и они спорят о том, каких русских писателей в первую очередь уничтожить и кому из них, евреев, при этом быть главным:
Космополит, он смолоду
как старый бык: втемяшится
в башку какая блажь, —
колом ее оттудова
не выбьешь: упираются,
всяк на своем стоит!
Такой скандал затеяли,
что думают прохожие,
советские читатели:
чай, клад космополитики
тут делят меж собой?
Идут и чертыхаются,
цитатами бодаются,
что дале, то сильней.
Космополиты составляют гнусный комплот — «врагам заморским на-руку, друзьям Руси назло». Чтобы скрепить зловещий сговор, надо, ясное дело, выпить и закусить. И вот:
Один бежит за водкою,
второй мчит за селедкою,
а третий, как ужаленный,
летит за чесноком.
Как же без чеснока? Без чеснока еврей не может. От него непременно должно за версту разить чесноком. Выпивая и закусывая, космополиты вырабатывают антисоветскую литературную программу:
— Зачем нам проза ясная?
— Зачем стихи понятные?
Спектакли злободневные
а тему о труде?
Все это, значит, ни к чему — уничтожим! Раздавим! Истребим! А вместо социалистической, понятной, здоровой литературы о труде —
Подай Луи Селина нам,
Подай нам Джойса, Киплинга,
подай сюда Ахматову,
подай Пастернака́!
Бегут космополиты, врываются в советскую культуру, все круша и ломая на своем пути, их много, этих Финкельштейнов:
Гуревич за Сутыриным,
Бернштейн за Финкельштейном,
Черняк за Гоффеншефером,
В. Кедров за Селектором,
М. Гельфанд за Б. Буниным,
а Хольцманом Мунблит.
Такой бедлам устроили,
Так нагло распоясались,
вольготно этак зажили,
что зарвались вконец.
Так зарвались эти злодеи, так разжирели, столько награбили государственных денег, столько напекли «отравных» книг, статей и рецензий, что забыли о грозном народном суде:
Плюясь, кичась, юродствуя, открыто издевался над Пушкиным самим, за гвалтом, за бесстыдною, позорной, вредоносною, мышиною возней иуды-зубоскальники в горячке не заметили, как взял их крепко за ухо своей рукой могучею советский наш народ!
Взял за ухо, за шиворот, за руки загребущие, за бельма завидущие — да гневом осветил!
Это еще не конец «поэмы», которую не зря назвали «энциклопедией погрома» — да цитировать противно. Целиком ее можно прочесть в интересной книге Григория Свирского «Заложники» (Париж, 1974, стр. 427–429). Кажется, русский стих и русское литературное слово еще никогда не служили для такой откровенно расистской, разнузданной похабщины. И что же? Осудили Сергея Васильева как фашиствующего хулигана? Его даже не попрекнули, от него не отмежевались, его выбирали в руководящие органы и печатали в «Правде». А когда он отдал концы, множество солидных организаций поспешили выразить свою скорбь. В газете «Московская Правда» от 4 июля 1975 года появилось торжественно-траурное объявление, гласившее:
И все эти секретариаты всех этих правлений тем самым выразили свою солидарность с лауреатом и людоедом, автором «энциклопедии погрома», Впрочем, чего от них хотеть? У них нет чувства истории. Они забыли, неверно, каким объявлением в свое время почтили поистине великого поэта:

Сопоставление этих двух объявлений поучительно. Их разделяет ровно пятнадцать лет. Изменилось ли что-нибудь между 1960 и 1975 годами? Пастернак умер членом Литфонда, а Васильев — государственным лауреатом. О Пастернаке до сих пор пишут, что его поэзия далека от народа, а сам он вызвал негодование предательским опубликованием заграницей своего романа и присуждением ему Нобелевской премии. О С. Васильеве пишут иначе: он — образец партийности и народности. О смерти его в 1975 году все секретариаты всех правлений извещают «с глубоким прискорбием», которого они не испытывали пятнадцать лет назад, когда смерть Бориса Пастернака оплакала в незабываемых стихах Анна Ахматова, принужденная, однако, поставить под ними ложную дату (1957 — вместо 1960), чтобы те, кому не надо, не догадались, о ком идет речь:
Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос