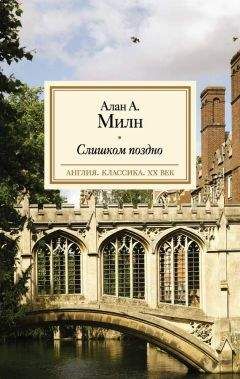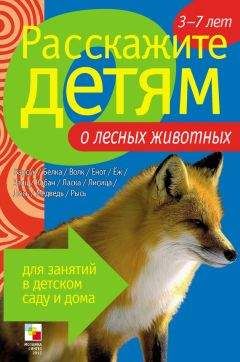В мае Дафна находилась в частной лечебнице. Однажды я застал у нее Ирен. Дот Бусико объявил, что не будет ставить спектаклей в Лондоне, пока не снизят арендную плату за театральные залы. Осенью он планировал провести сезон в Манчестере.
— Не пора ли написать для меня еще пьесу? — спросила Ирен.
— Дот говорил, что не будет ставить…
— Ну, если пьеса хорошая, всегда можно передумать.
— Он в самом деле прочел бы?
— Конечно! Есть роль для меня?
— Есть.
— Лучше Белинды?
— Надеюсь. Сами увидите.
Дринкуотер так ничего и не решил по поводу «Мистера Пима». Я все решил за него и тем же вечером отправил рукопись Бусико. Мы подписали договор, дающий ему право на пробный прогон в Манчестере в течение одной недели. Четвертого января 1920 года спектакль показали в Лондоне.
Я побывал на многих премьерах в жалком амплуа автора, но ни одна не сравнится с этой. Публика была так счастлива вновь увидеть обожаемую Ирен, что распространила свою благосклонность и на пьесу. Вызывали бесконечно, требовали речь, автора вытолкнули на сцену и снова затолкали за кулисы, а Дот и Ирен все кланялись и кланялись. Я сидел в уголке, среди рабочих сцены, и не мог поверить — неужели это правда?
Вдруг у меня за спиной невероятно усталый голос произнес:
— Да скажи им уже речь, начальник, и по домам!
Отрезвляющие слова. Представляю, как он пришел в тот вечер домой.
— Поздно ты сегодня, Билл.
— Угу, был успех.
И еще сорок миллионов человек в Англии встретили эту новость так же стоически. Все равно мы были счастливы.
4
В августе того же года мой соавтор произвел на свет нечто более личного свойства. Мы думали назвать творение «Розмари», но позже выяснилось, что лучше подойдет «Билли». Однако за что же называть человека «Уильямом»? Поэтому требовалось найти два других имени — нужны как минимум два инициала, чтобы не затеряться при такой подверженной плагиату фамилии, как Милн. Один из соавторов придумал имя Робин, другой — Кристофер. Впрочем, оба имени пропали зря, поскольку их носитель, едва научившись говорить, сам себя назвал Билли Мун и остался Муном для всех своих родных и знакомых. Я рассказываю об этом, чтобы объяснить, почему нас не задевала широкая известность имени «Кристофер Робин». Мы ощущали ее так, словно речь шла о книжном персонаже или о лошади, на которую мы когда-то поставили.
Когда нашему творению исполнилось три года, мы вместе с семьей Найджела Плейфера сняли на август домик в Северном Уэльсе. Весь месяц шли дожди. По утрам в одной гостиной собирались пятеро Плейферов, трое Милнов, Грейс Ловат-Фрейзер, Джоан Питт-Чатем, Фредерик Остен и еще целая компания людей, которых Найджел успел наприглашать в Лондоне, собираясь в свой, как он это представлял, уэльский замок. Через неделю я не знал, куда деваться от агорафобии. Срочно требовалось укрытие. Я объявил, что на меня снизошло вдохновение, и с карандашом и тетрадью удрал в беседку. Там были стул и столик. Я сел на стул, положил тетрадь на столик и мечтательно уставился в стену тумана, за которой, по всей вероятности, скрывался Сноудон, или Серпентайн — все равно. Я был один!
Однако рано или поздно меня спросят, что я такое пишу. А что я пишу?
Примерно полгода назад, работая над пьесой, я потратил целое утро на стихотворение под названием «Вечерняя молитва». Я подарил его Дафне, как дарят фотографию или открытку ко дню Святого Валентина — сказал, если ей захочется это где-нибудь опубликовать, пусть деньги будут ее. Она отправила стихотворение Фрэнку Крауниншилду в «Вэнити фэйр» (Нью-Йорк) и получила пятьдесят долларов. Позднее она одолжила мне это стихотворение для библиотеки кукольного домика королевы[44], а после того получила одну сорок четвертую долю от процента с продаж за сборник «Когда мы были совсем маленькими», а также определенную долю разнообразных смежных прав. Стишок оказался самым дорогим подарком из всех, что я ей дарил. Несколько месяцев спустя Роуз Файлмен затеяла издавать детский журнал и попросила меня, сам не знаю почему, написать для него стихи. Я ответил, что не могу, не умею, это не по моей части. Едва отправив письмо, я сделал то, что делаю всегда, после того как откажусь что-нибудь написать: стал думать, как бы я это написал, если бы не отказался. Например, можно так:
Жил-был хомяк в саду образцовом,
Где дельфиниум синий с геранью пунцовой.
От зари до зари, куда взгляд свой ни кинь —
Пунцова герань и дельфиниум синь.
Убив на это развлечение еще одно утро, я снова написал мисс Файлмен и сообщил, что, возможно, все-таки напишу для нее стихи. В результате появилось стихотворение под названием «Хомяк и доктор». Иллюстрации к нему нарисовал Гарри Раунтри. В Уэльсе я получил гранки, а вместе с ними — письма от иллюстратора и издателя. Они спрашивали: «Почему бы вам не написать целую книгу таких стихов?»
И вот я сижу с тетрадкой, карандашом и твердым намерением не покидать божественного уединения беседки, пока не кончится дождь… А двое людей в Лондоне просят детских стихов… А у меня тут под боком ребенок, с которым я уже прожил три года… И еще живы воспоминания о собственном детстве… Так что же я пишу? Ясное дело, книжку детских стихов! Ну не целую книжку — так, сочиню пару-тройку стишков, пока не надоест. К тому же карандаш у меня с резинкой на тупом конце — как раз то, что надо для поэзии.
В этой беседке я просидел одиннадцать дождливых дней и написал одиннадцать стихотворений. Потом мы вернулись в Лондон. Я продолжал сочинять стихи, чувствуя себя слегка виноватым, словно удрал с утра пораньше к «Лорду» или валяюсь в шезлонге в осборнской клинике и почитываю романы. Меня преследовало чувство, что человек с сильной волей вместо этого писал бы детективный роман и зарабатывал для семьи две тысячи долларов. К концу года стихов набралось на целую книжку.
Когда книга уже была у издателя, о ней узнал Оуэн Симан. Вероятно, от Лукаса — он тогда возглавлял издательство «Метуэн». Оуэн спросил, можно ли опубликовать часть стихов из книги в «Панче», и я ответил с некоторой неохотой — пусть берет, что ему понравится. Я боялся, что сборник перепечаток из «Панча» не вызовет такого интереса, как новая книжка. Однако результат получился вдвойне хорош: во-первых, публикация подтвердила, что я правильно выбрал иллюстратора, пригласив Шепарда, и, во-вторых, появление в печати «Королевского бутерброда» показало издателям, какого приема следует ожидать. Читательский восторг был неописуем, как в Англии, так и в Америке. За десять лет, пока не появились дешевые издания, было продано полмиллиона экземпляров.