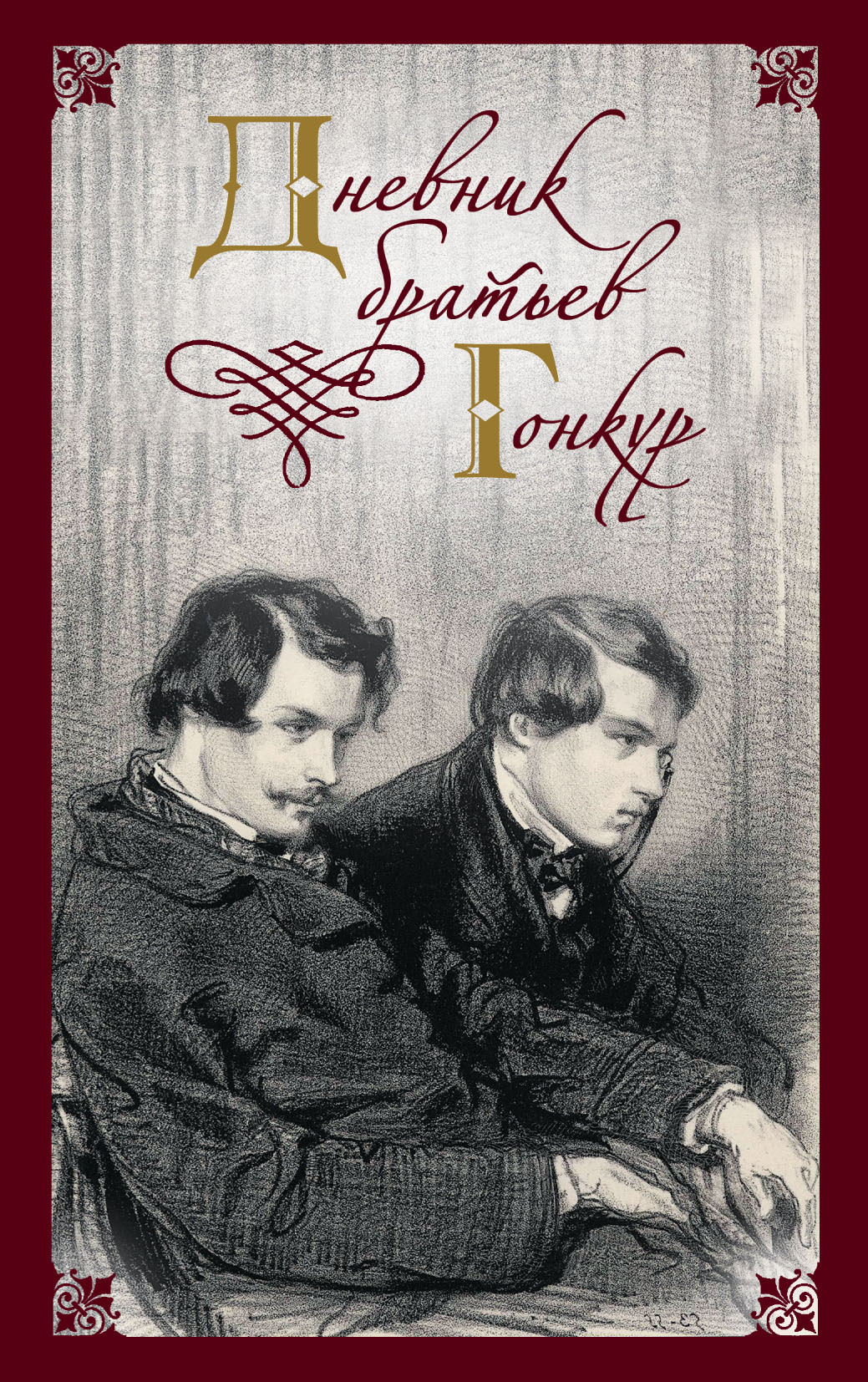исключительные, я хотел бы смиренно заметить, что масса шедевров, таких как «Дон Кихот», «Вертер», «Племянник Рамо», «Опасные связи» и пр. – описывают личностей исключительных, которые созданы гениальными писателями и находят через пятьдесят лет толкователей, превращающих эти исключительные характеры в
типические.
Я хотел бы также спросить, как он думает: смотрят ли нынче действительно в Норвегии на ибсеновских героинь как на типы норвежских женщин? Думает ли он, что трехактная пьеса «Фрекен Юлия» была бы сыграна, если бы Стриндберг был француз? А затем ему следовало бы признаться – ему, единственному защитнику революции в театре, – что всё, что дозволено иностранцам, не дозволено нам, что критика запрещает нам создавать театр возвышенный, философский, оригинальный, который превосходит театр, замкнувшийся на жизни современной буржуазной семьи.
26 мая, пятница. Грустно в мои годы уезжать из дома. Надо думать о возможности внезапной смерти и оставлять распоряжения.
Сегодня утром в мой кабинет вошли Жеффруа и Каррьер [152] с громадным букетом полевых цветов. Они поздравляют меня в мой 71-й год рождения. Внимание этих двух сердечных друзей меня тронуло.
После обеда была у меня госпожа Сишель и предложила, самым любезным образом уход за мною ее сына в Виши – на неделю-две [153].
28 мая, воскресенье, Виши. Доктор Фремон выслушивает меня и, и тщательно щупая, находит у меня в боку мою печень (не слишком объемистую, по его словам), этот больной орган, который независимо от меня инстинктивно сокращается и оберегает себя от прикосновения и выслушивания.
Грустно опять быть здесь, где мой брат был уже так болен; ходить одиноко под сводами бледных платанов, от которых старый парк с гуляющими по нему больными с их желтыми лицами кажется меланхолическим преддверьем чистилища.
13 июля, четверг. Доде говорит мне о слабости, наступившей у него после трехдневного желудочного приступа, и я отвечаю, что боль, конечно, требует большей затраты сил, чем любое физическое упражнение; что, может быть, со временем изобретут прибор, которым можно будет определять количество сил, израсходованных на приступ печени или на ревматические страдания, и тогда удивятся той сумме энергии, которую уносит какая-нибудь острая болезнь.
16 июля, воскресенье. Внутреннее удовлетворение, счастливая полнота жизни после труда – переделки в пьесу первой части «Актрисы». После лености болезни, после целых месяцев болезни, это какое-то воскрешение мыслящего существа от долгой каталепсии.
17 августа, четверг. Говоря о женщинах сегодня утром, Доде сказал: «Можно было бы написать нечто любопытное о вдовстве женщин, когда уже прошло у них самое горе. Это большей частью период избавления, когда они снова чувствуют себя свободными и вступают в свои права. И среди этих чувств воздвигается у них в душе памятник, созданный из множества иллюзий относительно их прошлого, так что даже женщины, не бывшие счастливыми в замужестве, воображают, что любили своего тирана, и поют ему хвалу.
Но в то же время встречаются женщины, слишком угнетенные замужеством, которые, и освободившись, не в силах уже отделаться от прежнего рабства».
28 октября, суббота. Ах, печень моя становится, наконец, несносною. Через каждые два-три дня – по припадку, неизвестно от чего, отвращение к пище, потливость каждое утро, и желчь, поминутно разливающаяся по лицу.
5 ноября, четверг. После обеда Леон Доде начинает вдруг, со свойственным ему увлечением, провозглашать, что Вагнер – гений выше Бетховена, и, горячась всё больше и больше, доходит до того, что объявляет Вагнера гением одной величины с Эсхилом, ставит его Парсифаля рядом с Прометеем.
На это отец ему возражает, что в области нечленораздельной речи, каковой можно назвать музыку, Вагнер подарил его ощущениями, подобных которым не давал ему ни один композитор, но в области речи членораздельной, то есть в литературе, он знает людей, стоящих несравненно выше него, между прочими – хотя бы Шекспира.
Тогда Роденбах, который присутствует здесь же, говорит – и говорит он сегодня вечером великолепно, – что настоящие великие люди независимы от моды, от восторгов, от эпилептических маний известного времени; превосходство Бетховена в том, что он говорит мозгу, тогда как Вагнер действует только на нервы; что из музыки Бетховена вы выносите чувство ясного спокойствия, тогда как после Вагнера вы разбиты, как будто боролись с морскими волнами во время сильной бури.
25 ноября, суббота. Кажется, я предан анафеме в мэрии 6-го округа женщинами из «Лиги эмансипации» – за все плохое, что высказал в своих книгах по адресу прекрасного пола; они не решились отлупить меня на дому, но полны решимости отправить мне энергичное письмо. По крайней мере так говорит репортер из «Молнии», явившийся узнать, получил ли я означенное письмо.
3 декабря, воскресенье. У издателя Плона на днях говорили, что велосипед убивает книжную торговлю: во-первых, затратой денег на покупку машины, затем затратой времени, которой эта езда требует от людей, не оставляя им свободных часов для чтения.
8 декабря, пятница. Вчера я наконец получил знаменитое «женское» письмо, предающее меня анафеме. Письмо учтиво, и я не отвечаю.
29 декабря, пятница. В последней своей книге Леон написал сатиру на современных докторов: нечто вроде странствований нового Гулливера по медицинскому миру. Он говорит, что эта книга не представляла для него ничего интересного, так как в нее вложен накопившийся запас наблюдений и он не имел наслаждения выдумывать, представлять себе, воображать. На это я отвечаю ему, что он должен остерегаться воображения и что, мне думается, красота настоящих книг достигается правильным выбором из накопленного запаса наблюдений.
4 мая, пятница. С понедельника я жду каждый день – а сам я болен, и в желудке у меня только молочный суп, которым меня кормят четыре раза в день, – жду какого-нибудь возмущенного или оскорбительного письма по поводу того или другого параграфа моего «Дневника».
30 мая, среда. Обед на улице Берри с маркизой Монтебелло, французской посланницей в Санкт-Петербурге [154], женщиной, миловидность которой становится еще пикантнее от крошечной родинки на щеке. Она описывает, весьма остроумно и изящно, большие придворные празднества, «пальмовые балы», где на ужине для тысячи человек каждый стол стоит под пальмой, утопая в роскоши цветов, какой себе нельзя представить; богатство костюмов описать невозможно, а императрица, женщина очень маленького роста, вся исчезает в блеске своих изумительных бриллиантов величиною с пробку графина. «Эти балы подавляют», – говорит маркиза.
25 июня, понедельник. Сегодня утром, в постели, когда я развертываю «Эко де Пари», глаза мои падают на напечатанную крупными буквами строчку: «Убийство господина Карно».
Эта газета, со своим описанием на трех страницах завтрака с паштетом á la Борджиа