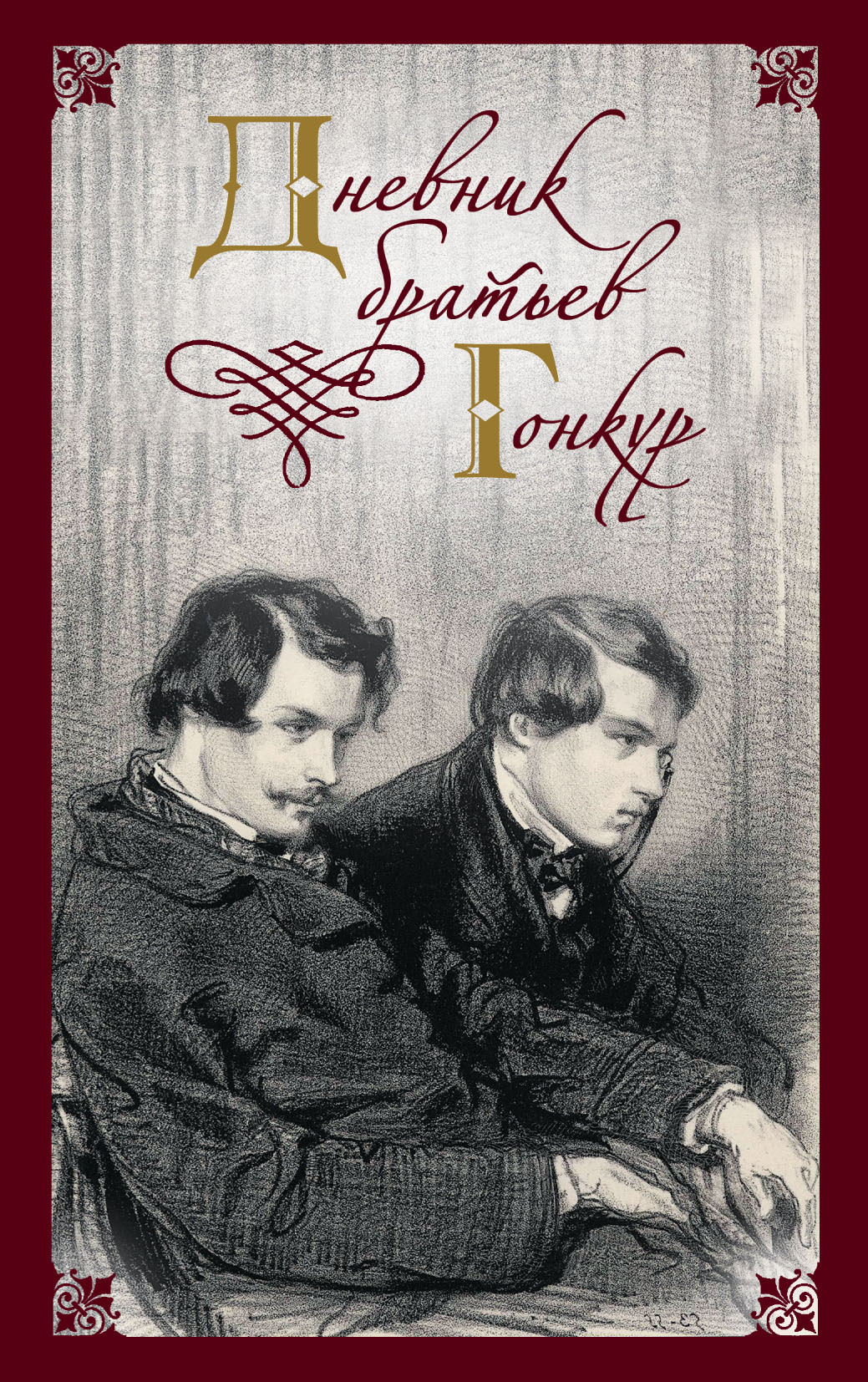мальчугана, чувствующего себя виноватым, – до того смущала, что я из-за незначительной провинности испытывал настоящий стыд. Впрочем, чтобы лучше показать эту женщину и – повторяю – влияние, которое она имела на меня, вот описание одного воскресенья в Менильмонтане, взятое из «Дома художника».
«К двум часам дня три женщины в светлых муслиновых платьях, в прюнелевых туфельках с лентами, охватывающими лодыжку, как на рисунках Гаварни из журнала "Мода", спускались вниз по дороге, направляясь в сторону Парижа.
Прелестное трио составляли эти женщины: тетушка со своим смуглым лицом, светящимся душевной красотой; ее невестка – белокурая креолка с лазоревыми глазами, бело-розовой кожей и ленивой томностью во всем теле; моя мать, с таким нежным лицом и маленькими ножками.
Они доходили до бульвара Бомарше и Сент-Антуанского предместья. В эти годы моя тетушка была одной из четырех-пяти жительниц Парижа, влюбленных в старину, в красоту прошлых веков – венецианский хрусталь, статуэтки из слоновой кости, мебель с инкрустацией, генуэзский бархат, алансонские кружева, саксонский фарфор. Мы приходили в антикварную лавку в тот час, когда хозяин собирался пойти пообедать в какой-нибудь закусочной близ Венсенского леса, и ставни были уже закрыты, а дневной свет, пробиваясь сквозь полуоткрытую дверь, терялся во тьме среди нагроможденных вещей. И в этом полумраке, в смутном и пыльном хаосе, три прелестные женщины вели лихорадочные, торопливые раскопки, шурша, как суетливые мышки в куче обломков. Они забирались в самые темные закоулки, немного опасаясь запачкать свои свежие перчатки, и кокетливым движением, кончиком ноги, обутой в прюнелевую туфельку, слегка подталкивали к свету куски позолоченной бронзы или деревянные фигурки, сваленные в груду наземь у стены. И всегда в завершение этих поисков – какая-нибудь удачная находка, которая вручалась мне, и я нес ее, словно святые дары, устремив глаза на носки башмаков, ступая осторожно, чтобы не упасть.
Полные пылкой радости от совершенной покупки, мы возвращались домой, и даже по спинам этих трех женщин можно было судить о том, как они счастливы; время от времени тетушка поворачивала ко мне голову и, улыбаясь, говорила: "Смотри, Эдмон, не разбей!"»
Эти воскресенья, конечно, сделали меня тем любителем редкостей, каким я всегда был и каким останусь на всю жизнь.
Но я обязан тетке не только любовью к искусству, малому и великому, но и самой моей любовью к литературе. Тетка моя была женщиной трезвого ума, воспитанного, как я уже говорил, на серьезном чтении, и ее речь, при самом милом, самом женственном голосе, была речью философа или художника, выделяясь из буржуазного языка окружающих меня людей, глубоко действовала на мое сознание, интригуя и пленяя его.
Помню, как она высказалась по поводу какой-то книги непонятной мне фразой и фраза эта долго хранилась в моей детской памяти, занимала мой мозг, заставляя его работать. Мне даже думается, что я услышал от нее впервые, гораздо раньше, чем это сделалось общеупотребительным, слова «субъективный» и «объективный». Уже тогда она научила меня любить выражения изысканные, образные, слова яркие, подобные, по прекрасному сравнению Жубера, «зеркалам, в которых мы видим нашу мысль», и это со временем сделало из меня страстного любителя всего написанного хорошо.
Бедная тетушка! Я вижу ее несколько лет спустя после продажи домика в небольшом деревенском доме, снятом на скорую руку во время ее болезни в окрестностях города. Дом был презабавный – с зубцами на крыше, лепился к большой стене с садиком в углублении, как в колодце.
Было утро. Тетушка еще не вставала. Флора, старая горничная с бородавкой на носу, всегда ходившая вприпрыжку, когда в доме бывало неладно, сказала мне, что ночь прошла нехорошо. Едва поцеловав меня, тетя сказала горничной: «Дай мне платок». И я заметил, что та подала ей платок, уже служивший ей ночью: он был весь в крови, и тетушка старалась спрятать его в своих исхудалых руках. И я вижу ее снова – перед отъездом в Рим, на улице Тронше, в неясных очертаниях, как бы стушеванною, в тумане от запахов лекарственных трав.
6 декабря, вторник. Одна моя приятельница, которая лечится у Грюби, передавала мне следующий рассказ старого венгерского доктора о Гейне.
Грюби позвали на консилиум вместе с другими докторами, к глазному врачу Сителю, чтобы подать мнение о болезни глаз у Гейне, который в то время еще не был тем знаменитым поэтом, каким сделался впоследствии. Грюби приписывал эту болезнь начинавшемуся расстройству спинного мозга и предложил лечение, но так как большинство было против, его не послушали.
Прошло лет десять или двенадцать. К Грюби опять явился доктор и привез его к Гейне. Отворяя дверь, проводник доктора Грюби сказал больному:
– Я привез вам спасителя!
А Гейне, обратившись к нему, воскликнул:
– Ах, доктор, зачем я вас не послушался!
Трудно было Грюби скрыть свое впечатление, когда он увидел вместо молодого и сильного мужчины паралитика, почти слепого, лежащего на ковре, прямо на полу.
Однако Гейне, несмотря на все свои страдания, сохранил бойкое и живое остроумие. И когда Грюби подверг его очень подробному исследованию, он спросил:
– Надолго меня еще хватит?
И Грюби отвечал:
– На очень долго.
Гейне живо возразил:
– Хорошо, только не говорите моей жене.
Перед уходом, желая уяснить, до какой степени дошел паралич мускулов рта у больного, Грюби спросил его, может ли он свистеть. Поэт, пальцами приподнимая себе безжизненные веки, проговорил:
– Не могу, даже на лучшей пьесе Скриба!
31 января, вторник. Сегодня мне хотелось бы ответить на статью моего приятеля Бауэра [151], метившего, кажется, в мое предисловие к комедии «Долой прогресс», где я высказываюсь против скандинавского и славянского влияния на наш театр, но я чувствую себя слишком плохо, чтобы писать статью.
Я хотел бы возразить на слова Бауэра о том, что французский театр вдохновлялся греческой трагедией, латинскими комедиями и испанскими пьесами и что ту же пользу принесет французской сцене и северное вдохновение. Я хотел бы возразить, что вдохновения греческие, латинские и испанские были вдохновениями родственными, исходящими из одной семьи с нами. Я хотел бы напомнить Бауэру, как однажды в разговоре с Золя, Доде и Тургеневым о смерти мы коснулись того особенного тумана, свойственного северным умам, того «славянского тумана», по выражению Тургенева, про который он говорил: «Этот туман спасает нас от логики нашей мысли, от преследований дедукции». Но дело в том, что туман этот находится в полном противоречии с произведениями нашего театра, который весь – ясность, логика и ум!
На утверждение, что натуралистический театр погиб от того, что выводил характеры