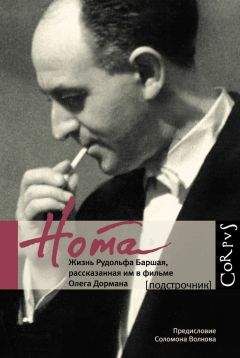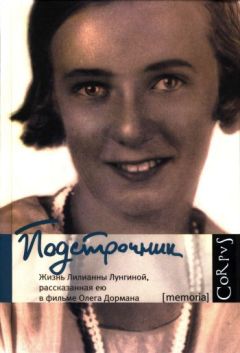Вскоре после записи Четвертой симфонии Малера с Эдит Матис я получил очень счастливое предложение: продирижировать его Десятой в Вене с оркестром Австрийского радио. В Вене, где Малер долгие годы работал и где похоронен.
Я приехал и начал работать с ними по партитуре Деррика Кука — другой и не существовало. Но с первых же шагов меня стало не устраивать, как Деррик Кук инструментовал и как решил заполнить «белые пятна», то есть непонятные места в рукописи. Даже в первой части. Что-то было не так, как будто нехорошо пиджак сидит, знаете. Музыка чудесная, но все звучит не так, как надо бы, не так, как я себе представляю.
И я неправильное направление выбрал: я решил сделать некоторые корректуры, исправить то, что мне особенно не нравится. Я несколько ночей писал дополнительные партии и вносил корректуру в уже готовые партии. Несколько ночей потратил на это. И все равно меня не устраивало, все равно не годилось.
Тогда я решил: нет, я должен этим заняться сначала. То есть я должен получить совершенно точный манускрипт. Не чьими-то обработками пользоваться и ни в какие обработки не заглядывать — а именно манускрипт получить. Я стал с тех пор по всей Европе рыскать, искать этот манускрипт.
Однажды меня пригласили исполнить с оркестром Стокгольмского радио Девятую Малера. Они отлично работали, упивались этой музыкой — и я их понимаю. Альбан Берг написал, переведу Вам с немецкого: «Еще раз играл Девятую симфонию Малера, от начала и до конца. Первая часть — самое прекрасное, что написал Малер. В ней выразилась немыслимая любовь к этой земле, страстное желание мирно жить на ней, наслаждаться земной природой во всей ее глубочайшей глубине — до тех пор, пока не придет смерть. Ибо она неизбежно придет».
А Локшин считал, и был совершенно прав, что в адажио Девятой Малер превзошел Бетховена. У обоих идут вариации на две темы, но у Бетховена синтеза этих вариаций нет, он не приводит к итогу, а у Малера есть, он нашел.
На все наши репетиции приходил один музыкант, который меня как-то озадачил — так он был внимателен и так слушал. Оказалось, он сам композитор, ученик Альбана Берга. Тогда я к нему сразу: «А у вас есть партитура Десятой? Рукопись настоящая?» Он сказал: «Есть». И палец приложил к губам: «Есть…» — «А вы не можете мне дать ее, ну, на одну ночь, чтобы переснять?» — «Не могу. Это свадебный подарок моей жены, — говорит. — Я не могу с ним расстаться».
Что делать? Пошел к директору оркестра. У нас были хорошие отношения, он все хотел, чтобы я взял оркестр, но я не мог, мои импресарио вели переговоры в других странах. «Помогите. У этого человека есть факсимильное воспроизведение Десятой, которое мне очень нужно. Я сделаю все, чтобы уговорить его дать мне рукопись на ночь. Но скопировать негде. Разрешите, я приду ночью в вашу библиотеку, там есть техника, и сделаем копию». Директор сказал: «Хорошо. Ладно. Я буду дежурить всю ночь, но с условием, что один экземпляр скопирую для себя».
Я узнал адрес этого композитора. Поехал к нему домой. Он жил на даче, где-то в пригороде Стокгольма. И я… В общем, я на колени встал. «Пожалуйста, дайте мне ноты только на одну ночь. Я завтра утром улетаю. Вы дадите мне партитуру, я поеду ее скопировать, привезу ее вам обратно, после этого поеду на аэродром». Его жена увидела эту сцену, услышала наш разговор. И, может, она на него подействовала, а может, просто он поверил мне. В общем, взял и дал партитуру: «Нате. Но обещайте, что вы мне ее вернете в любом случае, так или иначе, но вы вернете партитуру». — «Абсолютно обещаю». — «Я рано встаю, привозите, когда закончите».
Я схватил такси и поехал на радио. Директор меня ждал. Стали копировать. Страницу мне — страницу ему. А оригинал складываем обратно в портфель. Скопировать партитуру — не быстрое дело. Под утро я вернулся в гостиницу, не ложась, дождался рассвета, чтобы все-таки не разбудить композитора слишком рано, снова на такси поехал к нему, вернул рукопись и едва успел в аэропорт.
Работать я начал сразу, в самолете. Сразу, сразу. Никаких инструментов для работы мне не нужно, тут я твердый последователь Шостаковича: сочинять в голове, не на бумаге, все, до последнего инструмента — в голове.
Конечно, я не мог тогда предполагать, что работа займет двадцать лет. Где бы я ни был, в любую свободную минуту занимался Десятой. В те годы я очень много ездил. Надо было заработать денег на дом, и я старался играть как можно больше. В самолете, в поезде, в машине — всегда со мной была эта рукопись. Лечу с пересадкой, между рейсами — час или два; подхожу к сотруднице аэропорта, говорю: «Здравствуйте. Я композитор. Не найдется ли у вас местечка потише, чтобы мне поработать, пока жду самолета?» Отказов не бывало. Помню, одна девушка говорит в свою рацию: «Тут у нас симпатичный молодой композитор. Ему нужно поработать. Нельзя ли его пустить в кабинет господина такого-то, которого сегодня не будет? Я так и подумала. Пойдемте, маэстро, я вас провожу».
Из письма Р. Баршая А. Локшину, 1981 г.
Дорогой Шура! Получил Ваше письмо от 6 июля (по поводу Missa Solemnis Бетховена). Большое спасибо за все подробности; так сказать, ноты в словах, но очень все ясно. Замечания все замечательные. Валторна в 35 такте и мне приходила в голову, но как-то не решался. Остаются 37–39 такты: не лучше ли отдать альты кларнету, все остальное оставив в точности, даже второй кларнет и фаготы в 39 такте? <…> Как ни странно, дальше в партитуре меньше нелепостей, хотя есть страшные, там все аккомпанемент, а это, так сказать, увертюра. Вот мне и хотелось ее несколько прибрать. Почему я взялся за Paradies und Peri?[12] Во-первых, мне нравится музыка. Есть прекрасные хоры. Жаль, что у Вас нет всей партитуры. Во-вторых, ее редко играют. Я, например, никогда не слышал. Другое дело — в сравнении. Вот сейчас, после Solemnis, вообще трудно что-либо учить. Сказать, что я был увлечен Мессой Бетховена, — это ничего не сказать. Две недели я просто был в жару. Ничего, кроме этой музыки, не слышал и не видел. Все кажется ничтожным. Agnus Dei способен свести с ума.
Первый раз так близко сошелся с хором. Надо сказать, что большой хор — великая вещь. Особенно когда он гибок под руками (буквально). Но разумеется, возникло много вопросов. Например, в Gloria — первое Meno allegro: второй аккорд с ми-бемолем после до мажора в одних партитурах повторяется, в других залигован <…> Затем — какова роль органа? Собственно говоря, в печатление такое, что оркестр превращен в живой орган. В бетховенской рукописи партия органа отсутствует. Но вместе с тем известно, что он сам позже сделал отдельную партию и она существует. Хотя это тоже ни о чем не говорит. Мало ли, почему он написал эту партию. Ведь его, кажется, упрекали в недостатке религиозности.