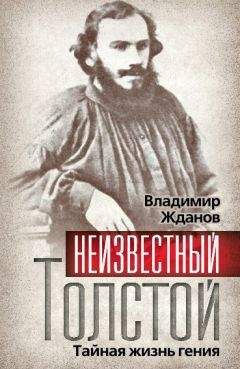Смягченное разлукой взаимное отчуждение сразу обостряется по приезде Льва Николаевича в Москву. В своей духовной работе он по-прежнему одинок, не видит кругом сочувствия, и семья, несмотря на двадцатилетнюю близость, временами просто тяготит его.
О душевном состоянии он пишет Н. Н. Страхову в марте 1882 года: «Я устал ужасно и ослабел. Целая зима прошла праздно. – То, что по-моему нужнее всего людям, то оказывается никому не нужным. Хочется умереть иногда. Для моего дела смерть моя будет полезна. Но если не умираю еще, видно, нет на то воли Отца. – И часто, отдаваясь этой воле, не тяготишься жизнью и не боишься смерти».
А одному незнакомому корреспонденту, в котором Лев Николаевич нашел сочувствие себе, он отвечает такими яркими строками: «Дорогой мой М. А. Пишу вам «дорогой» не потому, что так пишут, а потому, что со времени получения вашего первого, а особенно второго письма, – чувствую, что вы мне очень близки, и я вас очень люблю. В чувстве, которое я испытываю к вам, есть много эгоистического. Вы, верно, не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми окружающими меня. Знаю, что претерпевший до конца спасен будет; знаю, что только в пустяках дано человеку право воспользоваться плодами своего труда, или хоть видеть этот плод, а что в деле Божьей истины, которая вечна, не может быть дано человеку видеть плод своего дела, особенно же в короткий период своей коротенькой жизни. Знаю все это и все-таки часто унываю, и потому встреча с вами и надежда, почти уверенность, найти в вас человека, искренне идущего со мной по одной дороге и к одной и той же цели, для меня очень радостна… Говорят мне: если вы находите, что вне исполнения христианского учения нет разумной жизни, а вы любите эту разумную жизнь, отчего вы не исполняете заповедей? Я отвечаю, что я виноват и гадок и достоин презрения за то, что не исполняю, но притом, не столько в оправдание, сколько в объяснение непоследовательности своей, говорю: посмотрите на мою жизнь, прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнять. Я не исполнил и одной тысячной, это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Научите меня, как выпутаться из сети соблазнов, охвативших меня, помогите, и я исполню… а не сбивайте меня, не радуйтесь тому, что я сбился, не кричите с восторгом: вон он говорит, что идет домой, а сам лезет в болото! Да, не радуйтесь же этому, а помогите мне, поддержите меня.
Ведь вы не черти из болота, а тоже люди, идущие домой. Ведь я один, и ведь я не могу желать идти в болото. Помогите мне, у меня сердце разрывается от отчаяния, что мы все заблудились и, когда я бьюсь всеми силами, вы при каждом отклонении, вместо того, чтобы пожалеть себя и меня, суете меня и с восторгом кричите: смотрите, с нами вместе в болоте».
Из дневника Софьи Андреевны: «20 лет тому назад, счастливая, молодая, я начала писать эту книгу, всю историю любви моей к Левочке. В ней почти ничего больше нет, как любовь. И вот теперь, через 20 лет, сижу всю ночь одна и читаю и оплакиваю свою любовь. В первый раз в жизни Левочка убежал от меня и остался ночевать в кабинете. Мы поссорились о пустяках, я напала на него за то, что он не заботится о детях, что не помогает ходить за больным Илюшей и шить им курточки. Но дело не в курточках, дело в охлаждении его ко мне и детям. Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтоб уйти от семьи. Умирать буду я, а не забуду этот искренний его возглас, но он как бы отрезал от меня сердце. Молю Бога о смерти, мне без любви его жить ужасно, я это тогда ясно почувствовала, когда эта любовь ушла от меня. Я не могу ему показывать, до какой степени я его сильно, по-старому, 20 лет люблю. Это унижает меня и надоедает ему. Он проникся христианством и мыслями о самосовершенствовании. Я ревную его… Илюша болен, лежит в гостиной в жару, у него тиф; я слежу за тем, чтобы дать ему хинин в промежуток, который очень короток, и я боюсь пропустить. Я не лягу сегодня спать на брошенную моим мужем постель. Помоги, Господи! Я хочу лишить себя жизни, у меня мысли путаются. Бьет 4 часа. Я загадала: если он не придет, он любит другую. Он не пришел. Долг, я прежде так знала, что мой долг, а теперь?»
Позднее записано: «Он пришел, но мы помирились только через сутки. Мы оба плакали, и я с радостью увидала, что не умерла та любовь, которую я оплакивала в эту страшную ночь. Никогда не забуду того прелестного утра, ясного, холодного, с блестящей, серебристой росой, когда я вышла после бессонной ночи по лесной дороге в купальню. Давно я не видала такой торжествующей красы природы. Я долго сидела в ледяной воде с мыслью простудиться и умереть. Но я не простудилась, вернулась домой и взяла кормить обрадовавшегося мне и улыбающегося Алешу».
Зиму 1881/82 года Толстые прожили в Москве, в Денежном (ныне Левшинском) переулке, в доме № 3.
Весною 1882 года Лев Николаевич задумал перейти в другое, более уединенное помещение и остановил выбор на доме И. А. Арнаутова в Хамовническом переулке [208] . Дом приобретен Толстым в собственность, и все заботы по его оборудованию взял на себя Лев Николаевич. Ради этого он проводит конец лета в Москве, добросовестно хлопочет о ремонте, отдавая в письмах к жене в деревню подробный отчет.
Но ясно чувствуется, как внутренне далек Лев Николаевич от этих забот, как старательно прячет он от себя и от других свой протест, свое состояние. Он хочет быть в семье, но путь к этому для него слишком тяжел. Он не отходит от семьи, но остается с нею внешне, сознавая свое духовное одиночество.
«Сейчас послал Сергея [209] к архитектору, прося выслать завтра как можно больше паркетчиков. Вообще, все подвинулось меньше, чем я ожидал. Я приму все меры и в четверг телеграфирую. Тебе, верно, не больше моего хочется скорее соединиться. За дом я что-то робею перед тобой. Пожалуйста, не будь строга. Мальчики очень милы. Такой я счастливый! У вас был, – у вас очень хорошо. Сюда, к мальчикам, приехал, – очень хорошо».
«Мечта моя – поразить тебя благоустройством дома – не удалась. Только о том боюсь, чтобы неурядица, которую ты застанешь, не слишком неприятно поразила тебя. Разместиться тепло и сухо будет всем; это только и будет». «Мне дурно спится все это время, и мрачное настроение духа. Но я не поддамся ему. Самое лучшее против этого средство – не позволять себе рассуждать о себе. Я так и делаю».
Понимает это и Софья Андреевна: «Левочка, ты мне не пишешь, что у тебя на душе и о чем ты думаешь, и что тебе хорошо, и что дурно, что скучно и что радостно? Только о практических вещах мне пишешь: или ты думаешь, что я совсем одеревенела? Ведь не одни же паркеты и клозеты меня интересуют. Хотела я тебе из Сенеки выписать целое место, в котором ты мог бы поучиться, как относиться к тому, что противно душе, как тебе, например, город; да длинно, времени не хватает; надо еще посмотреть, как уложили Илье вещи. Бог даст, скоро увидимся, тогда покажу».