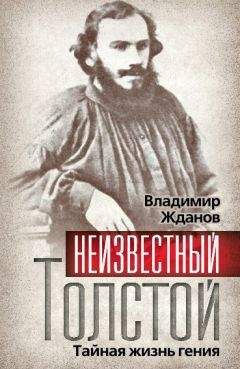Зиму 1882/83 года Толстые провели в Москве. Их «жизнь в своем доме, довольно отдаленном от городского шума, гораздо легче и лучше прошлогодней. Левочка спокоен и добр, иногда прорываются прежние упреки и горечь, но реже и короче. Он делается все добрее и добрее». Он «все пишет о христианстве, здоровье не совсем хорошо, и нервы не крепки, но лучше гораздо, чем в прошлом году. Иногда он играет в винт и довольно охотно. Мы очень дружны, – пишет Софья Андреевна, – и во все время очень слегка один раз поспорили». «Левочка в таком хорошем духе, прелесть! Дай Бог, чтоб так продолжалось».
Эта мирная атмосфера сразу сказалась на отношении Софьи Андреевны к творческой работе мужа. Теперь она не тяготится ею (огорчает ее только, что труды его из-за цензуры никогда не увидят света, думает о ней с большим уважением и гордостью.
В дневнике она отмечает: «Пишет Левочка все еще в духе христианства, и эта работа нескончаемая, потому что не может быть напечатана. И это нужно, и это воля Божья, и, может быть, для великих целей».
Из письма к сестре: «Левочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи; иногда прорываются у него речи против городской и вообще барской жизни. Мне это больно бывает, но я знаю, что он иначе не может. Он человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. А я толпа, живу с течением толпы, вместе с толпой вижу свет фонаря, который несет всякий передовой человек и Левочка, конечно, тоже, и признаю, что это свет, но не могу идти скорее; меня давит и толпа, и среда, и мои привычки. Я так и вижу, как ты смеешься моим в высшей степени словам, как дети говорят, но это тебе немножко уяснит, как мы относимся друг к другу».
Софья Андреевна довольно правильно наметила границы. – Лев Николаевич «все пишет свои евангельские сочинения», а круг интересов семьи остается неизменно прежним.
«Мы тоже, слава Богу, процветаем и веселимся, – пишет Софья Андреевна сестре. – Была у нас елка на первый день, потом был спектакль и детский вечер с бантиками, котильоном и проч. у Боянус (ур. Хлюстина). Потом был французский спектакль и большой детский вечер у Тепловых. Было очень хорошо, нарядно и весело. Маша и Леля танцевали до 3-х часов. Мне тоже очень было приятно. А вчера был самый настоящий бал с оркестром, ужином, генерал-губернатором и лучшим московским обществом у Щербатовых [210] . Таня была в белом tulle illusion [211] с атласом и акациями. Я разорилась, сшила черное бархатное платье с Alençon [212] своим, очень великолепно (стоило 250 рублей серебром). Таня очень веселилась, танцевала котильон с дирижером в первой паре, и лицо у ней было такое веселое и торжествующее, что меня и всех стариков смех разбирал. До шести часов утра мы все были на бале. Я очень устала, но нашлись очень приятные дамы: Ермолова [213] и Шереметева [214] , с которыми очень приятно время провела, и тоже смотреть довольно весело. Перезнакомилась я с такой пропастью людей, что всех и не припомнишь, Теперь мы совсем, кажется, в свет пустились: денег выходит ужас! Веселого, по правде сказать, я еще не много вижу. Кавалеры в свете довольно плохие. Назначили мы на четверг прием. Вот садимся, как дуры, в гостиной, Лелька юлит у окна, кто приехал, смотрит. Потом чай, ром, сухарики, тартинки, все это едят и пьют с большим аппетитом. И мы едем тоже, и так же нас принимают по приемным дням. Вчера приезжали смотреть на наши туалеты Дьяков и Лиза Оболенская, и все говорили, что я поразительна: вот никто не видал меня нарядной, то и удивляются, что я на чучело не похожа… Новый год мы встретили дома, но всей семьей, с шампанским, и было просто, но дружно и весело».
Это спокойствие и дружеские отношения, напоминающие своего рода дружеские дипломатические отношения двух стран, совершенно различных по своим устремлениям, не могут, конечно, быть продолжительны и при каждом, даже незначительном, поводе обостряются. Различие целей жизни давно выявилось, для поддержания отношений выработаны новые формы, но любящему сердцу трудно помириться с такой отчужденностью в душевной жизни, оно прорывается, протестует, хотя и чувствует полное бессилие изменить что-либо.
В мае 1883 года Лев Николаевич уезжает в самарское имение пить кумыс и по хозяйственным делам. Софья Андреевна остается в Ясной, полная домашних забот и тревоги о больных детях. У них был коклюш.
«Неужели тебе хорошо? – пишет Софья Андреевна мужу. – Иногда просто не верится, а думаю с огорчением, что тебе хорошо только потому, что ты вне нашей жизни, нас и, главное, вдали от меня. Будет ли польза твоему здоровью, это самое главное и первое».
«Я все читаю твою статью, или, лучше, твое сочинение [215] . Конечно, ничего нельзя сказать против того, что хорошо бы людям быть совершенными, и непременно надо напоминать людям, как надо быть совершенными и какими путями достигнуть этого. Но все-таки не могу не сказать, что трудно отбросить все игрушки в жизни, которыми играешь, и всякий, и я больше других, держу эти игрушки крепко и радуюсь, как они блестят, шумят и забавляют…
Почему ты пишешь, что вернешься ко мне ближе, чем уехал? Что же ты не пишешь, почему? Хорошо бы это было, неужели это опять возможно? В письме, которое я не посылаю, я тебе все свои чувства написала, а потом решила, что не нужны тебе мои искренние чувства, ты так неосторожно стал обращаться с ними, что лучше никогда тебе их не знать. Разве будешь опять таким, каким был в старые годы. Но буду ли я такая? Все на свете меняется, одного желаю от души, чтобы ты здоров был и покоен. Если тебе лучше там, живи, сколько поживется, пока хочется. Затруднений в жизни без тебя, слава Богу, пока ни с детьми, ни с делами не было. Никогда уже я не буду удерживать тебя при себе, как имела неосторожность, любя тебя, это делать прежде. Свобода свободная – вот и счастье по-новому. Ни упреков тогда, ни ссоры, но зато и ни той тесной связи, которая тянет за сердце, как только один дернет другого.
Если ты вернешься 1-го, то это, значит, через 9 дней еще. Но ты, пожалуйста, не думай и не считай, что это я назначила этот срок. Я ничего не назначаю, я прошу делать по своему чувству и по своему здоровью. Господи! только бы не быть опять виноватой, что я никуда не пускаю, отняла все твои радости и забыла всю твою жизнь. Какая я, правда, была неловкая!
Еще напишу тебе одно письмо. А теперь кончаю, потому что во мне закипает что-то странное и я, кажется, начинаю писать опять не то, что бы хотела. Ты не думай, что я зла или не в духе; право, ни с кем ни разу не поссорилась и была очень весела. Так многое наболело в последнюю весну, что, когда вспоминаю, такую чувствую невыносимую сердечную боль, что думаю: «все, только не то, что было!» Не знаю, отчего именно сегодня нахлынули разные воспоминания, в первый раз в этот месяц стало невыносимо тоскливо» [216] .