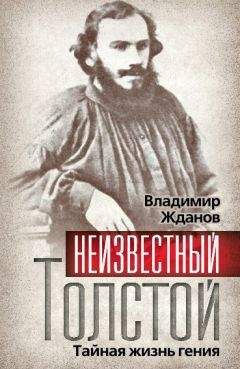Еще напишу тебе одно письмо. А теперь кончаю, потому что во мне закипает что-то странное и я, кажется, начинаю писать опять не то, что бы хотела. Ты не думай, что я зла или не в духе; право, ни с кем ни разу не поссорилась и была очень весела. Так многое наболело в последнюю весну, что, когда вспоминаю, такую чувствую невыносимую сердечную боль, что думаю: «все, только не то, что было!» Не знаю, отчего именно сегодня нахлынули разные воспоминания, в первый раз в этот месяц стало невыносимо тоскливо» [216] .
Ответ Льва Николаевича: «Вчера ночью получил я твою телеграмму ответную и три письма… Я уже засыпал, Иван Михайлович еще гулял, услыхал возвращающегося Алексея Алексеевича [217] , взял письма и телеграмму и принес ко мне. В тот же вечер меня уже напугали телеграммой из Богатова… Я пишу к тому, что по моему страху, который я испытал, распечатывая телеграмму, я узнал, как сильна моя любовь к тебе и детям. И вот я получил радостную телеграмму, что все здоровы и веселы, и твое письмо от 7 июня, последнее, и чем больше я читал, тем большим холодом меня обдавало. Хотел послать тебе это письмо, да тебе будет досадно. Ничего особенного нет в письме, но я не спал всю ночь, и мне стало ужасно грустно и тяжело. Я тебя так любил, и ты так напомнила мне все то, чем ты старательно убиваешь мою любовь. Я писал тебе, что я слишком холодно и поспешно простился с тобой; на это ты пишешь, что ты стараешься жить так, чтобы я тебе был не нужен, и что очень успешно достигаешь этого. Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, ты пишешь, как про слабость, от которой ты надеешься, что я исправлюсь посредством кумыса. О предстоящем нашем свидании, которое для меня радостная, светлая точка впереди, о которой я стараюсь не думать, чтобы не ускакать сейчас, ты пишешь, предвидя с моей стороны упреки и неприятности. О себе ты пишешь так, что ты так спокойна и довольна, что мне только остается не нарушать этого довольства и спокойствия своим присутствием… Я так живо вспомнил эти твои настроения, столько измучившие меня, про которые я совсем забыл, и я так просто и ясно люблю тебя, что мне стало больно. Ах, если бы не находили на тебя эти дикие минуты, я не могу представить себе, до какой степени дошла бы моя любовь к тебе! Должно быть, так надо. Но если бы можно было избегать этого, как хорошо бы было!
Я утешаюсь, что это было дурное настроение, которое давно прошло, и теперь, высказав, стряхнул с себя. Но все-таки далеко до того чувства, которое имел к тебе до последнего письма. Да, то было слишком сильно. Ну, будет, прости меня, если я тебе сделал больно; ведь ты знаешь, что нельзя лгать между нами…
Боюсь за это письмо, как бы оно не огорчило тебя. По себе знаешь, когда любишь (это я про себя говорю), то так натянуто сердце в разлуке, что каждое неловкое, грубое прикосновение отзывается очень больно».
Внешнее спокойствие в этом году не вернулось больше в семью.
Было что-то напряженное в отношениях, и кроме недовольства Льва Николаевича городской барской жизнью, сыграло большую роль то обстоятельство, которое за последние годы в общей гамме переживаний занимает одно из первых мест. Это – не скрываемая Софьей Андреевной боязнь новой беременности. В 1881 году она уступила судьбе и родился сын Алексей [218] . В следующем году возникает снова этот страх [219] , он преследует ее каждый месяц [220] , и в конце осени 1883 года, несмотря на ее протест и отчаяние, Софья Андреевна опять забеременела.
За последние три года отношения осложнялись преимущественно в эти месяцы тревоги, ухудшились они и теперь. Сначала не было ничего резкого по форме, но Лев Николаевич еще больше отошел от семьи, и Софья Андреевна со своею печалью одинока.
Приводим несколько документов, дающих представление об атмосфере, царившей в семье.
Софья Андреевна пишет сестре 9 октября 1883 г.: «Левочка третьего дня вечером приехал из Ясной, и я уже вижу его напряженное, даже несчастнее выражение лица. Он жил там десять дней, писал, охотился; был у него Урусов два дня, и, видно, уединение так было по душе Левочке, что он тяжело с ним расстался. Я вполне его понимаю, а теперь более, чем когда-либо охотно осталась бы в деревне, но, увы, это невозможно с учением и с выездами Тани, которая собирается начать свои выезды с декабря. Может быть, и не придется, если я того… А теперь все обмираю, что в таком положении… и потому еще стало тревожнее и противнее».
9 ноября: «Левочка уехал в Ясную Поляну на неделю. Он там будет охотиться и отдыхать. Мы ведем все ту же однообразную, занятую жизнь и решительно никуда не выезжаем. Не знаю, долго ли продолжится мое полусумасшедшее, оцепенелое состояние» [221] .
14 ноября – мужу: «Сегодня в письме твоем меня очень больно кольнула фраза: «Только есть одному скучно». Досказываю сама: «а жить одному гораздо лучше». Хоть часто я это про тебя думаю, но иногда, когда ты нежен и заботлив, я опять себе делаю иллюзии, что без нас тебе было бы грустно. Конечно, все реже и реже будешь создавать себе эти иллюзии и вместо них занимать жизнь чем-нибудь другим. А мне ни вместе, ни одной, ни с детьми – ни с чем уж жить не хочется, и все чаще, и чаще, и страшнее приходит в голову мысль: неужели надо жить, и нельзя иначе.
Мое письмо должно было бы быть, как моя жизнь теперешняя: спокойно, добросовестно, с стараньем, чтоб долг свой исполнять и заглушать все, что безумно. Но мой долг – тебя не расстраивать. Может быть, у тебя, наконец, хороший рабочий день, а я как раз тебя расстраиваю. Но это пройдет, когда я поздоровею».
В приведенных документах нет прямого освещений затронутого вопроса, но чувствуется с несомненностью, что пропасть между Софьей Андреевной и Львом Николаевичем все больше и больше растет, постепенно накопляются затаенные упреки друг к другу.
Лев Николаевич не может простить жене барски интеллигентский строй жизни, который она настойчиво прививает семье, а ее отрицательное отношение к дальнейшему деторождению отнимает у него единственно для него приемлемые формы супружеских отношений, тем самым подрывая внутреннюю связь. У него нет согласия ни с женою, ни с женою-матерью, ни с детьми.
В свою очередь Софья Андреевна, не видя для семьи другого пути жизни, кроме того, на котором воспитались и муж и она и воспитывались ее дети в течение 17 лет, не может простить Льву Николаевичу, что он постоянно отходит от дома, пренебрегает установившимися в их обществе интересами детей и требует от нее прежних форм супружеских отношений, которые, помимо физических мучений и личных лишений, для нее – уставшей – очень тяжелых, не имеют за собой внутреннего оправдания с тех пор, как Лев Николаевич решительно удалился от семьи. У нее нет согласия ни с мужем, ни с мужем-отцом. Она вся с детьми, предоставленная сама себе, жертвуя ради детей отношениями с мужем.