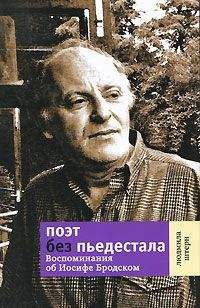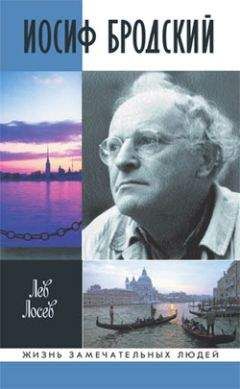И позже он, когда вспоминает о Севере, обязательно передает северный спокойный серый тон:
У северных широт набравшись краски трезвой,
(иначе — серости) и хлестких резюме,
ни резвого свинца, ни обнаженных лезвий
как собственной родни, глаз больше не бздюме…
В северных пространствах поэт видит спасение для своей души, находит успокоение от всех страхов предыдущих дней. Приходит непривычная для поэта пора смирения — не перед властями, не перед судом, не перед соперниками по литературе — народного смирения перед миром и жизнью, в конце концов, перед Богом:
Так шуми же себе
В судебной своей судьбе
Над моей головою,
Присужденной тебе,
Но только рукой (плеча)
Дай мне воды (ручья)
Зачерпнуть, чтоб я понял,
Что только жизнь — ничья…
В северные его стихи густо вплетается любовная лирика. Иногда и не отделить, где северный пейзаж, где его боль за скудость и тяготы народной жизни, а где — личная боль и тоска по любимой. Ведь именно завершающее северную тему стихотворение о деревне, затерянной в болотах, так поразило требовательного к Бродскому Наума Коржавина. Стихотворение, пишет он, «неотделимо от сути, от боли, которая нарастает. Как неотделима от автора скудость деревенской жизни, которую он в себя вобрал, хотя и не стал ее частью… и с которой связана его личная боль… Автор не ставит и не решает проблемы сельской жизни, он просто чувствует людей, которые в этой жизни остались, которые за время его пребывания в ней стали ему со всеми своими будничными заботами более понятны и по-своему даже близки… Трудно представить человека, которому оно бы не понравилось. Положительно сказался на поэте отрыв от дружного коллектива поклонников — он стал слышать себя и мир!».
Он помнит и всех близких ему односельчан, от коношского майора милиции Одинцова, «совершенно замечательного человека», до крестьян, у которых жил в Норенской:
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
А как жив, то пьяный сидит в подвале,
Либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
Говорят, калитку, не то ворота…
Кстати, тема деревни уже годы спустя после ссылки вновь и вновь появляется в стихах Бродского, и видно даже по деталям, что эта мысленная деревня все та же — северная Норенская. А слово «деревянный» становится со времен ссылки одним из самых любимых в стихах поэта. Кстати, изменение словаря Иосифа Бродского со времен его архангельской ссылки — интересная тема для исследования, которая еще ждет своего автора.
Но вернемся к поэту, в его тихую избушку, которую он снимал то у крестьянки Таисии Пестеревой, то у Константина Борисовича Пестерева и его жены Афанасии Михайловны. Попробуем понять, почему поэт неоднократно в своих интервью признавал, что «это был, как я сейчас вспоминаю, один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше — пожалуй, не было».
Во-первых, погружение в поэзию вдали от навязчивой богемной братии — это неплохо. Отсутствие тусовки дает время для вдумчивой работы, и ее было предостаточно. Настоящее знакомство с многими поэтами, от Роберта Фроста до Николая Клюева. «Ну, работа там какая — батраком! Но меня это нисколько не пугало. Наоборот, ужасно нравилось. Потому что это был чистый Фрост или наш Клюев: Север, холод, деревня, земля. Такой абстрактный сельский пейзаж…» Можно было представить себя Фростом, выкорчевывая камни из земли. Постижение Одена и Элиота, открытие значимости поэтического языка, языка вообще в жизни человечества.
Во-вторых, это был, пожалуй, самый яркий период его любви, самый счастливый период, особенно когда Марина приехала к нему в деревню, и так ладно они жили, что вспоминает Таисия Пестерева: «Приезжали. Отец Александр Иванович… Марина, жена вроде. Тогда они уходили в другую горницу. Иосиф говорил: „Таисья Ивановна много работает, у нее коровы, телки. Ей отдыхать надо“. И разговаривали очень тихо. А часто вечерами и ночами он чего-то писал…» Деревенская семейная идиллия, и только.
Пусть же в сердце твоем,
Как рыба бьется живьем
И трепещет обрывок
Нашей жизни вдвоем.
Там, в ссылке, были написаны «Пророчество», «Новые стансы к Августе», «Северная почта» и еще многие из лучших стихов поэта.
Четвертого сентября 1965 года, уже при новом генсеке Брежневе, Верховный Совет СССР занялся судьбой «тунеядца» Бродского, сократив ему срок наказания с пяти лет до реально отбытых восемнадцати месяцев. Причиной этого стали как просьбы советских и зарубежных деятелей культуры, так и борьба нового руководства с «перегибами» хрущевских времен. Правда, то ли по чьей-то злой воле, то ли по обычному разгильдяйству постановление об освобождении поэта было отправлено вместо Архангельской области в Вологодскую, и он был освобожден только 23 сентября. Почему-то сначала он поехал не домой, где его ждали родители, а в Москву, где прожил почти месяц, выступал в интеллигентских салонах и даже читал стихи студентам МГУ.
По возвращении в Ленинград он по рекомендации Корнея Чуковского был принят в профгруппу при городском Союзе писателей, что спасало его от новых обвинений в тунеядстве. Однако положение его было неопределенным: переговоры о публикации в журналах и даже об издании книги закончились ничем, а после чехословацких событий 1968 года стало ясно, что путь в советскую литературу для Бродского закрыт окончательно. Памятником этому периоду стала написанная на Рождество 1967 года «Речь о пролитом молоке», полная язвительных жалоб на жизнь:
Я пришел к Рождеству с пустым карманом.
Издатель тянет с моим романом.
Календарь Москвы заражен Кораном.
Не могу я встать и поехать в гости
ни к приятелю, у которого плачут детки,
ни в семейный дом, ни к знакомой девке.
Всюду необходимы деньги.
Я сижу на стуле, трясусь от злости…
В стихотворении досталось всем: и неверной возлюбленной («Зная мой статус, моя невеста / Пятый год за меня ни с места»), и родителям, ожидающим от единственного сына устройства в жизни («Они считают меня бандитом, / издеваются над моим аппетитом. / Я не пользуюсь у них кредитом. „Наливайте ему пожиже!“»). Из душной ленинградской безысходности поэт тянется к Богу, к русской природе («Я люблю родные поля, лощины…»), повторяя как заклинание: «Зелень лета вернется». Почти физически чувствуется, как ему, обновившемуся душой в ссылке, неуютно в родных когда-то городских интерьерах, как скучны для него богемные компании с их лицемерными похвалами и тайной завистью. Год за годом положение не менялось: работы не было, редкие публикации переводов и детских стихов не спасали положения. Марина, родив ему сына, ушла окончательно, личная жизнь была столь же неустроенной, как карьера. Все чаще единственным выходом для него казалась эмиграция.
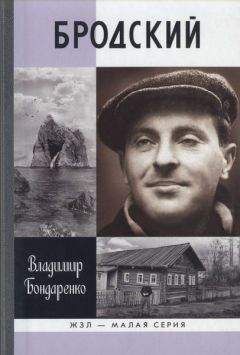

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)