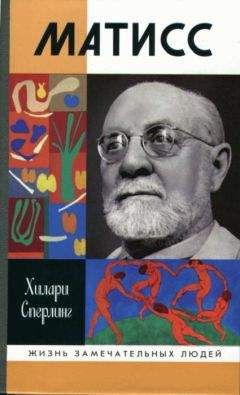Она написала Матисса лежащим на диване в мастерской. На ее портрете он выглядит гораздо моложе и расслабленней, чем на любой из известных фотографий. Гнев критика из «Journal», вероятно, вызвало то, с какой самоуверенностью и даже юмором художница исключила из портрета все, что показалось ей несущественным. Краски она свела к дополняющим друг друга красной и зеленой, которые ей подсказал рыжеватый оттенок волос Матисса и его вельветовый рабочий костюм бутылочного-зеленого цвета (художница подметила и загорелую кожу, и рыжие волосы, и тонкие пальцы, и неожиданно длинные ноги). Подобно классическим изображениям лежащих обнаженных, массивное тело Матисса, небрежно развалившегося с книгой на стеганом клетчатом покрывале, делит полотно по диагонали — точно такую же «кошачью позу» он будет настойчиво предлагать девушкам, которые станут позировать ему в Ницце десять лет спустя. Написанный Ольгой портрет заметно отличается от автопортретов Матисса: здесь нет ни мрачной задумчивости его ранних автопортретов, ни комического подтекста, неизменно присутствующего в карандашных набросках. Взгляд Меерсон добр, но отнюдь не невинен. Своим портретом она с трогательной откровенностью и простотой демонстрирует главную заповедь Учителя: правда эмоций в живописи значит намного больше, чем все остальное.
В то время она была влюблена в него, но как он относился к ней, сказать с определенностью трудно. Несомненно, Матисс выделял Ольгу среди своих студентов, часто приглашал в Исси, где она считалась — как, впрочем, и все его постоянные модели, — почти членом семьи. В 1911 году Ольге Меерсон исполнилось тридцать три. Свой скромный бюджет она пополняла, продавая копии старых мастеров, поскольку заработать на жизнь собственными картинами шансов у нее практически не было. «По ее словам, она больше не хочет делать то, что делала до сих Пор, но и не может делать то, что ей хочется, — писал Матисс, Подтверждая ее собственный мрачный вывод. — Иными словами, она ненавидит то, что может делать легко и свободно, однако делать что-то другое не способна». Годами Матисс с женой, которые и сами не роскошествовали, старались помогать Меерсон — подкармливали, находили заказы. Не считая Амели и нескольких профессиональных натурщиц, Ольга была единственной, решившейся позировать Матиссу обнаженной (речь, надо заметить, шла о годах перед Первой мировой войной, когда нравы были еще довольно пуританскими). Ольга рано порвала со своей средой, предпочтя респектабельной буржуазной семье буйное космополитичное художественное сообщество, ниспровергавшее всяческие условности. Что касается личной свободы, то в этом вопросе она уже давно не считалась ни с какими условностями, которыми так и не решился пренебречь Матисс, связанный до последнего дня семейными узами и чувством долга.
Различие во взглядах, возможно, и объясняет ту необычную записку, которую Матисс послал Ольге после своего внезапного появления в дверях ее комнаты на бульваре Инвалидов (и столь же внезапного исчезновения — как это было в случае с Васильевой). Текст записки гласил: «Я могу думать об этом только как о припадке безумия. Ничто не давало мне права так поступать. Мои подозрения были необоснованными». Матисс просил Ольгу никому не говорить о происшедшем (и даже предупредил, что не сказал об этом ни слова жене). «Даже если вы меня простили, то не уверен, смогу ли я простить себя сам… Разве у вас не бывает минутных необдуманных порывов?.. Думаю, я просто обезумел».
Прежде считалось, что эти строки были написаны в начале их знакомства, когда Матисс работал над «Нимфой и сатиром». Однако, судя по рассказам дочери художника, кризис в их отношениях наступил гораздо позже, да и тон этого послания отличается от дружеских записок Ольге, в которых он назначал ей встречу или поздравлял с праздниками (почти все они были написаны в 1910 году или чуть раньше). В любом случае, даже если Матисс и имел любовную связь с Ольгой или рассчитывал на нее, суть его подозрений остается загадкой. Все как один» знавшие Меерсон, подтверждают, что для нее не существовало никого, кроме Матисса. Она влюбилась в него с первого взгляда, в чем призналась своей лучшей подруге Лиле Эфрон, откровенно написав ей в Москву о своих чувствах[124]. В таком случае единственная правдоподобная версия столь страстного послания заключается в том, что подозрения Матисса вовсе не носили сексуального характера: он подозревал, что Ольга принимает наркотики. Одна только мысль о ее пагубном увлечении приводила его в бешенство, и, возможно, он неожиданно нагрянул к ней, чтобы застать врасплох.
Подобный поворот придал бы совершенно иную окраску письмам Матисса жене из Испании, не оставляющим сомнения в том, что он по-прежнему любил Амели, — почти каждая страница проникнута тоской по ней. Если в теории воздержание и было его идеалом, то в реальной жизни ему не хватало физического присутствия жены, особенно после очередной бессонной ночи. «Ma chère biche[125], — с нежностью пишет он ей 6 декабря 1910 года, — не слишком удивляйся этому выражению. Оно вырвалось само собой из-за того, что утром я немного сонный, поскольку не спал нормально уже две ночи. Ты ведь знаешь, каким я могу быть в эти минуты и какой нежности ожидаю от тебя в ответ». Легко понять, что, скрыв от жены свое минутное безумие, Матисс желал уберечь их брак. Да и трудно вообразить, в чем можно было подозревать женщину, не делавшую секрета из своих чувств и принадлежавшую к тому кругу, где сексуальная свобода шла рука об руку со свободой творчества. И хотя Ольга признавалась Лиле Эфрон, что физическая сторона любовных отношений для нее не столь важна, нравственные запреты, судя по ее письмам, не были для нее табу. В Мюнхене она дружила с художницами Габриэлой Мюнтер и Марианной Веревкиной, которые делили не только мастерские, но и постель, соответственно, с Василием Кандинским и Алексеем Явленским. Кандинский уверял Мюнтер, что их связь прочнее любых брачных уз, и, возможно, Ольга Меерсон мечтала о подобных отношениях с Анри Матиссом.
Но даже если бы ее мечта осуществилась, едва ли это сделало ее счастливой. Жить с Матиссом было нелегко, а порой даже невыносимо. Если у него что-то не получалось, то он не считал нужным сдерживаться и изливал свое недовольство на любого, кто оказывался поблизости; в такие минуты в нем просыпались ревность и собственнический инстинкт. Лидия Делекторская говорила, что легко представляла себе, какую сцену он мог закатить в комнате Ольги на бульваре Инвалидов. За двадцать лет жизни рядом с Матиссом мадам Лидия столько раз была свидетельницей этих его «приступов безумия» и беспричинной ярости, когда он начинал обличать позировавших ему девушек. Он считал, что его модели должны так же безответно отдавать себя высшей цели, как и он сам. Матисс не делал скидок ни на собственные, ни на чужие слабости; потребности или желания других людей не играли для него никакой роли. Он не допус, кал никаких исключений из правила, что живопись — прежде всего[126].