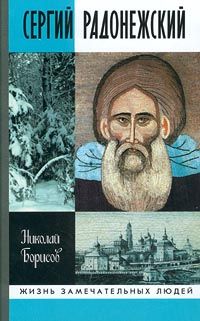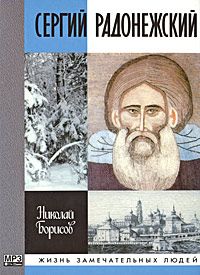В тот день рассматривалось всего несколько дел, и почти все бесспорные. Народу же в помещении городского совета набилось немало. Среди любопытных Федоров увидел своего приходского попа викария Георгия, монахов и служебников епископа Балабана и вспомнил предостережение Бильдаги.
Назначенные в заседание советники и цеховые старшины заняли свои места.
Суд начался.
Стараясь придать лицу скучающее, равнодушное выражение, а голосу подобающую бесстрастность, секретарь вскоре вызвал Сенника, Власа Замочника, Власа Герника и Ивана Федорова.
От напряжения, потребовавшегося для принятия бесстрастного вида, угреватый нос секретаря даже побелел.
Секретарь вызывал сочувствие. Как цеховой мастер, он желал торжества Власу Замочнику и в то же время неудачи Федорову, слухи об огромных доходах которого вызывали недовольство и зависть. Вдобавок секретарь был лютеранином, как и Мартин Сенник…
Показания Власа Герника и Власа Замочника внимания не привлекли. Оба повторили то, что говорили неделей раньше.
Но когда дошла очередь до Федорова, по залу пробежал шумок, тут же сменившийся бездонной тишиной.
После обычных вопросов об имени и роде занятий суд перешел к существу дела.
— Знаком ли свидетель с врачом Мартином Сенником?
— Да, знаком.
— Какого рода это знакомство? Не связано ли оно с печатанием книг?
— Да, это деловое знакомство.
— Какие отношения были у свидетеля с Сенником?
— Обычные. Врач Сенник помог получить бумагу в кредит.
— Чем может свидетель объяснить такое расположение к нему малознакомого человека, жителя другого города?
Федоров почуял подвох. Пожал плечами.
— Спросите у самого Сенника… Я искал бумагу, Сенник помог достать ее в кредит. Условия кредита были для бумажного фабриканта выгодны.
— А не переписывался ли свидетель с Сенником, не сносился ли с ним по другим делам?
— Не переписывался, но видаться виделся.
— Зачем?
— Книгами менялся.
— Прекрасно. А не намеревались ли Сенник и Федоров заняться совместным печатанием книг?
Федоров невольно краем глаза посмотрел на Сенника. Тот сидел, покусывая губу, нервно мигая.
— Почтеннейшие! — сказал Федоров. — Я хоть и московитянин, а хорошо знаю законы цехов. Как я мог пойти на учреждение компании? Это же запрещено!
Секретарь суда удовлетворенно кивнул и тут же, спохватившись, свирепо глянул на свидетеля.
— Поставим вопрос иначе. Не говорил ли свидетель с Сенником об издании книг на латинском языке? — гнул свое председатель.
Федоров молчал. Он не видел, но всем существом чувствовал, как вытянулись шеи зрителей в черных рясах.
Мартин Сенник не выдержал:
— Говорили неоднократно!
В зале возник шелест. Председатель постучал по столу дубовым молотком.
— Отвечайте!
Не глядя на Сенника, Федоров громко сказал:
— Нет, не говорили.
— Это ложь! — крикнул Сенник. — Я требую присяги!
Судьи посовещались. Иван Федоров стоял грузный, задыхающийся, странно равнодушный ко всему происходившему. Его заставили солгать. Ничего страшнее быть уже не могло.
И когда ему подсунули Библию, чтоб положил на нее руку, он подумал лишь, что Библия ветха, и подтвердил под присягой и то, что не говорил с Сенником об издании латинских книг, и то, что не присылал к нему из Острога посланцев, и то, что никогда не слыхал о немецких купцах, и то, что не передавал никому шестисот злотых.
— Этот человек подл! Пусть его покарает бог! — встав и подняв руку, воскликнул Сенник.
Зал гудел.
Федоров воротился на свое место, как слепой шаря руками. Иван Бильдага и сын подхватили Федорова, вывели на улицу, кое-как довели до дому.
Печатнику полегчало только к вечеру.
Ванька, склонившись над отцом, заметил на выцветающих глазах его мутную влагу.
— Сходи к Мартину! — прошептал Федоров. — Попроси прийти… Я все объясню.
— Поздно, батя…
— Сходи!
Ванька вернулся очень скоро.
— Дверь передо мной захлопнул, — сказал он. — Ишь, тварь ехидная! Ругался на всю улицу!
Спустя несколько дней кардиналу Гозию доложили, что врач Мартин Сенник вернулся в Краков, не получив удовлетворения и окончательно порвав с московским друкарем.
Выслушав это известие, кардинал подошел к окну и долго смотрел на Вислу.
Прячась за тяжелой занавеской, княгиня Марья Юрьевна смотрела, куда пойдет муж. Если направо, к конюшням и псарне, тогда…
Курбский, наказав что-то слуге, свернул к конюшням.
Марья Юрьевна отпрянула от окна, проскользнула в коридор, ведущий к кабинету князя. Тяжело дыша, оглянулась. Никого. Нажала медную, в виде львиной лапы ручку дверей. Двери заскрипели. Марья Юрьевна протиснулась в приотворившиеся створки, закрыла их за собой. Глаза лихорадочно обежали покой. Остановились на заваленном книгами столе. Сами, неизвестно для чего, пробежали названия книг: Аристотель, «Органон», «Поэтика», Ориген, «О началах», проповеди Иоанна Златоуста…
— Чернокнижник проклятый! Чернокнижник проклятый! — сдавленно шептала Марья Юрьевна, трясущимися руками уже шаря по ящикам.
И вдруг умолкла. Пальцы натолкнулись на знакомую резьбу.
Марья Юрьевна вытащила вместительный кипарисовый ковчежец. Своим ключиком быстро открыла его. Стала рыться в фамильных драгоценностях. На самом дне увидела пачку бумаг. Схватила, засунула за ворот платья, захлопнула ковчежец, сунула на место, задвинула ящик.
Оглянулась. В мгновенье очутилась у двери. Прислушалась. И тем же путем, опрометью, не чуя ног, в свою спальню.
— Раина! Раина! Где гонец от Яна?
— Ждет в корчме, ясновельможная пани.
— Бери эти бумаги, беги к нему, чтобы никто не видел. Отдай…
А князь Курбский, ничего не подозревая, осматривает коней, играет с гончими щенками, поит отваром цитварного семени борзых.
Возня с собаками — любимейший отдых князя, устающего от переводов с греческого и латыни.
Курбский давно бежит развлечений и пиров. Обиженный на Стефана Батория, вслед за Сигизмундом-Августом не подтвердившего прав князя на наследственное владение Ковельщиной, обиженный на литовских друзей, не заступившихся так, как могли бы заступиться перед королем, Курбским затворился в любимом местечке Миляновичи и пытается найти. утешение в ученых занятиях.
Но недаром его зовут угрюмым московитом.
Милее противоречивых умопостроений Аристотеля становятся ему безнадежные и скорбные слова Экклезиаста о тщете всего мирского.