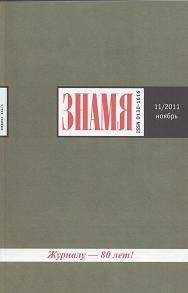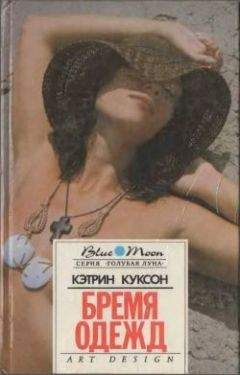Несмотря на его огромную привязанность к Родену, чувствовалось, в какой степени природный дар Райнера — ибо он сам создал для себя свой образ Бога — диаметрально противоположен роденовскому.
Совершенно очевидно, что и их личные отношения не могли длиться долго, ведь малейшие, даже случайные недоразумения оставляли в них трещину. Для Родена проблему решало его блестящее здоровье и энергия, а так как первейшая задача жизни есть служение искусству, все, включая минуты беззаботной радости и разрядки, соединялось, чтобы обогатить его искусство. Для Райнера перенять манеру Родена означало превратить акт творчества в пассивное самоотречение, безоговорочное повиновение мэтру, который им руководил, и это ему отчасти удалось, в частности, благодаря собственной внутренней противоречивости, которая была его спасением, подавляя всплеск эмоций холодной властью цензуры.
Вот почему ничто, до довольно позднего появления его блистательных "Элегий" и "Песен Орфея", не могло дать такой сильный толчок творчеству Райнера, как описания Бедняков-которые-богаче-всех: хотя бы, для примера, эти судьбы влюбленных женщин, которые, насколько бы трагичными они ни были, все же привели к полному самоотречению, а значит, к ис-тинному владению собой. В "Первой Элегии" он так говорит о них: "Смотри на них, завидуй им, — покинутые женщины, чьей душе, переполненной любовью, нет успокоения". (См. Сонеты в переводе с португальского, 24 сонета к Луизе Лабе, "Письма Монахини" и т. д.)
В те годы, когда рождались "Элегии", отрывки из коих Райнер мне присылал, ему пришли в голову слова — в них весь Райнер, — которые поют хвалу человеку действия, как и влюбленному человеку, с бульшим жаром, чем человеку искусства. Так, в едва зарождавшейся "Седьмой Элегии" появилось четверостишие, озаглавленное "Фрагмент":
Вот герой устремился вперед чрез препоны любви.
Каждая из них возвышает его все больше.
Сердце с каждым ударом рвется вперед, вот, вот,
но стоит вздохнуть безотчетно,
как новая преграда пред ним встает.
Едва закончив "Мальте", Райнер решил больше не писать и в некотором смысле переместить то, что было его книгами, в плоскость, повернутую к реальности, к жизни. Я почти до-словно вспоминаю нашу беседу летом пополудни в нашем саду. Мы вышли поговорить о том, что существует тип влюбленных, который черпает силу в иллюзиях своей любви, и о том, что чем более безответной она остается, тем мощнее и плодотворнее ее творческий потенциал. Райнер просто взорвался стоном отча-яния: да, создавать и иметь силы создавать — это родник творческой энергии в душе человека, нужно только доказывать себе, что наивысшее творение человечества существует, как доказывают себе это влюбленные! Но то, что создает художник, стоит по ту сторону дорогих ему предметов, и именно оттуда он черпает свое вдохновение. И каждый раз, когда оно покидает его, он, он сам теряет смысл. Ибо все сущее (все то, что существует) о нем даже не ведает и в нем не нуждается: он один нужен себе, чтобы познать самого себя. Причиной того, что для Райнера еще со времен его юности невыносимым мучением было ожидание часов подъема работоспособности, было его хрупкое здоровье: не только тело было подорвано этим ожиданием — все осложнялось его истерией. То есть вместо обычной подготовки к работе, когда художник колеблется, как начать, у него начинались приступы повышенной чувствительности и раздражительности, боли, доходящие до кризисов и спазмов тела. Райнер называл это, иногда в шутку, — хотя чаще всего это терзало его до отчаяния, — "своей неуместной писаниной", а свое тело — "хитроумной обезьяной". Это значит, его боли проникали даже в чисто психические области: он позволял за-хлестнуть себя этим всплескам, которым не было оправдания и которые повторялись с такой силой и упорством, что он, дол-жно быть, забывал, с каким жаром он отдавался своей настоящей жизни, понимаемой им в такие моменты как "обезьянничание". Однако самыми болезненными были часы, когда судьба преподносила ему неподдельные подарки, когда он бывал окружен состраданием, добротой, уважением, дружбой. Его буквально обволакивали этими чувствами, даримыми с такой красотой и величием, но он, истинный Райнер, горько плакал в душе, что вызывал их, он, тем не менее, воспринимал их только как легкое опьянение, некую помеху, имитируя видимость того, что он их принимает, хотя его внутренний мир творца так и оставался чуждым этому блаженству.
Я думаю, все это можно отнести на тот счет, что некогда Райнер увлекался оккультизмом и возможностями медиума, трансцендентными значениями слов и влиянием мертвых; он выводил из этого подобие символов существования и некое совершенное знание, которым пытался наполнить эти символы. В спокойные периоды он отметал все это, отторгал почти с дикой яростью.
Больше всего меня потрясло то, что даже тогда, когда у него появились ученики — в буквальном смысле слова (немецкий термин Funger — "ученик" — означает также еще "тот, кто младше"), — которым он был наставником и другом, у него оставалось подозрение, что это какая-то мучительная обязанность, и он только имитировал себя. Он не просто казался проводником и опорой — он был ими реально, но в то же время эта функция неумолимо казалась отображением его напрасного стремления быть собой. Отсюда он черпал свою значимость; к тому же его старая мечта "стать провинциальным доктором" и жить среди больных и бедняков усиливалась тем, что он, действуя как Спаситель, хотел материализовать и обеспечить себе собственное спасение, чтобы в него верить.
Промежуточность положения между даром творить и необходимостью принуждать себя пользоваться им, что превращало его в "карикатуру", некую имитацию — вот в чем зловещая судьба Райнера. Не стоит путать это с теми относительно без-обидными минутами, когда люди исключительной этической чистоты или стремящиеся достигнуть морального совершенства в минуту слабости бросаются с головой в успокоительную иллюзию, в которой они себя же затем упрекают; для них это всего лишь прямая, на которой их душа становится то лучше, то хуже. Но у Райнера это носило отпечаток такой бескомпромиссной серьезности, что выходило за рамки морали, если только его собственные законы и запреты не аннулировались доктриной о предопределенности свыше. Ведь самым ужасным в судьбе Райнера было то, что она (судьба) даже не позволяла ему убедить себя, что у него есть право роптать. Во всем, что возносило его над ним самим, когда он творил, или в том, что увлекало его за собой, одновременно защищая, в самые сокровенные глубины, было не меньше принудительного и рокового, чем во всем том, что распыляло его на псевдоактивность или на пустоту великой бездеятельности. Оно еще в ранней юности подтолкнуло его искать, увы, бесцельно, свое спасение в гипотезе, что он, такой, какой есть, был предопределен еще до рождения: скопище недостатков, которым он всегда был и которые, хотя он это горячо отвергал, всегда составляли часть его ценности. С особой силой все это сосредоточивалось на его матери. "Подумать только, я ее сын; и в этом вылинявшем осколке стены, стены, которой уже нет, — есть потайная дверца, почти не различимая, давшая мне выход в этот мир! — если предположить, что это был действительно выход в мир…"