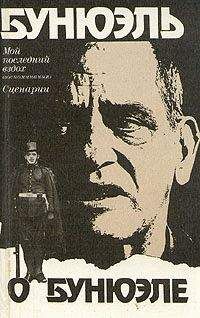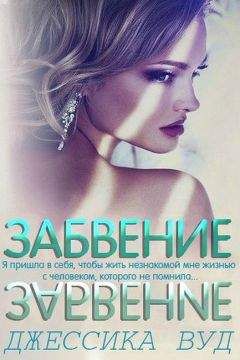Я любил Сада. Мне было более двадцати пяти лет, когда в Париже я впервые прочитал его книгу. Это чтение произвело на меня впечатление еще более сильное, чем чтение Дарвина. Книгу «Сто двадцать дней Содома» впервые издали в Берлине в небольшом количестве экземпляров. Однажды я увидел один из них у Ролана Тюаля, у которого был в гостях вместе с Робером Десносом. Этот единственный экземпляр читал Марсель Пруст и другие. Мне тоже одолжили его.
До этого я понятия не имел о Саде. Чтение весьма меня поразило. В университете Мадрида мне практически были доступны великие произведения мировой литературы — от Камоэнса до Данте, от Гомера до Сервантеса. Как же мог я ничего не знать об этой удивительной книге, которая анализировала общество со всех точек зрения — глубоко, систематично — и предлагала культурную «tabula rasa».
Для меня это был сильный шок. Значит, в университете мне лгали. И тотчас другие шедевры предстали передо мной лишенными смысла, значения. Я попробовал перечитать «Божественную комедию», и она показалась мне самой непоэтичной книгой в мире — еще менее, чем Библия. А что сказать о «Лузиадах» или «Освобожденном Иерусалиме»? Я говорил себе: нужно было прочесть Сада раньше этих книг! Сколько зря потраченного времени!
Я тотчас пожелал найти другие книги Сада. Но все они были строжайше запрещены, и их можно было обнаружить только среди раритетов XVIII века. Владелец книжного магазина на улице Бонапарта, к которому меня привели Бретон и Элюар, занес мое имя в список желающих приобрести «Жюстину», но так и не достал ее. Зато в моих руках побывала оригинальная рукопись «Ста двадцати дней Содома», я даже чуть не купил ее.
В конечном итоге ее приобрел виконт де Ноайль — это был довольно внушительный рулон. Я позаимствовал у друзей «Будуарную философию», которую обожал, «Диалог священника и умирающего», «Жюстину»и «Жюльетту». В последней мне особенно нравилась сцена между Жюльеттой и Папой, в которой Папа признается в атеизме. Мою внучку зовут Жюльеттой, но я оставляю ответственность за выбор имени моему сыну Жану-Луи.
У Бретона был экземпляр «Жюстины», у Рене Кревеля тоже. Когда Кревель покончил с собой, первый, кто пришел к нему, был Дали. Затем уже появились Бретон и другие члены группы. Немного позднее из Лондона прилетела подруга Кревеля. Она-то и обнаружила в похоронной суете исчезновение «Жюстины».
Кто— то ее украл. Дали? Не может быть. Бретон? Абсурд. К тому же у него был свой экземпляр. Вором оказался близкий Кревелю человек, хорошо знавший его библиотеку. Но он не наказан до сих пор.
Я был потрясен завещанием Сада, в котором он просил, чтобы его прах был разбросан где придется и чтобы человечество забыло о его книгах и о его имени. Хотелось бы мне сказать о себе то же самое. Я считаю лживыми и опасными все памятные даты, все статуи великих людей. К чему они? Да здравствует забвение! Я вижу достоинство только в небытии. Если сегодня мой интерес к Саду утрачен — ведь всякая восторженность проходит, — я все равно не могу забыть эту культурную революцию. Его влияние на меня было, вероятно, очень значительным. Относительно «Золотого века», где цитаты из Сада бросаются в глаза, Морис Гейне написал статью, утверждая, что Божественный маркиз остался бы очень недоволен. Он ведь обрушивался на все религии, не ограничиваясь, как я, только христианством. Я ответил, что не ставил задачу продемонстрировать уважение к высказываниям умершего автора, а хотел лишь создать картину.
Я обожал Вагнера и использовал его музыку во многих картинах, начиная с первой («Андалузский пес») и кончая последней («Этот смутный объект желания»). Я неплохо знал его произведения.
Одним из самых больших огорчений последних лет жизни является невозможность слушать музыку. Вот уже двадцать лет мои уши не различают звуков, словно ноты стали меняться местами в написанном тексте, мешая восприятию. Если бы случилось чудо и ко мне вернулся слух, моя старость была бы спасена и музыка стала бы своеобразным успокаивающим средством, помогающим мне спокойно уйти в небытие. Но я вижу лишь одно средство помочь себе — съездить в Лурд.
В молодости я играл на скрипке, а позднее в Париже пощипывал струны банджо. Я любил Бетховена, Сезара Франка, Шумана, Дебюсси и многих других.
С годами мое отношение к музыке решительно изменилось. В прежнее время, когда нам сообщали о приезде в Сарагосу Большого симфонического оркестра Мадрида, всеми овладевало волнение, сладость ожидания. Мы готовились, считали дни, разыскивали партитуры, напевали мелодии. В вечер концерта все испытывали ни с чем не сравнимую радость.
Сегодня достаточно нажать на кнопку, чтобы тотчас же у себя дома услышать любую музыку. Явственно вижу, что мы потеряли. А что выиграли? Для достижения прекрасного мне всегда казались необходимыми три условия: надежда, борьба и победа. Я люблю поесть спозаранку. Ложусь рано и встаю поздно. В этом смысле я совершенно не похож на испанца.
Я люблю север, холод и дождь. В этом смысле я настоящий испанец. Родившись в стране, где очень жарко, я не знаю ничего лучше, чем огромные влажные леса и туманы. Отправляясь летом на север, в Сан-Себастьян, я испытывал волнение при виде папоротника, мха на стволах деревьев. Мне всегда нравились Скандинавские страны (где я никогда не был) и Россия.
Семи лет я написал сказку, действие которой происходило в транссибирском экспрессе, мчавшемся через заснеженные степи.
Мне нравится шум дождя. Для меня это воспоминание о чем-то удивительно прекрасном. Я слышу шум дождя через свой слуховой аппарат, но это не прежний шум. Дождь создает великие нации.
Я действительно люблю холод. В молодости даже в самые жестокие зимние дни я прогуливался без пальто, в одном. пиджаке и рубашке. Я чувствовал, как холод проникает в меня, но я сопротивлялся, и это ощущение было мне по душе. Друзья называли меня el sin-abrigo, беспальточный. Однажды они сфотографировали меня голым на снегу.
Как— то зимой в Париже, когда Сена начала замерзать, я встречал Хуана Висенса на вокзале д'Орсэ, куда прибывали поезда из Мадрида. Холод был настолько пронизывающим, что мне пришлось бегать вдоль перрона. Но это не помешало мне подцепить пневмонию. Едва поправившись, я тотчас же купил себе теплую одежду -впервые в жизни.
В 30 — е годы вместе с Пепином Бельо и еще одним другом — Луисом Салинасом, капитаном артиллерии, мы часто ездили зимой в горы Гвадаррамы.
По правде говоря, вместо того чтобы заниматься зимним спортом, мы запирались в доме и сидели перед горевшим огнем с несколькими бутылками доброго вина. Время от времени мы выходили подышать свежим воздухом, закутавшись в шарф, bufanda, которым обычно закрываются до самого носа, как Фернандо Рей в «Тристане».