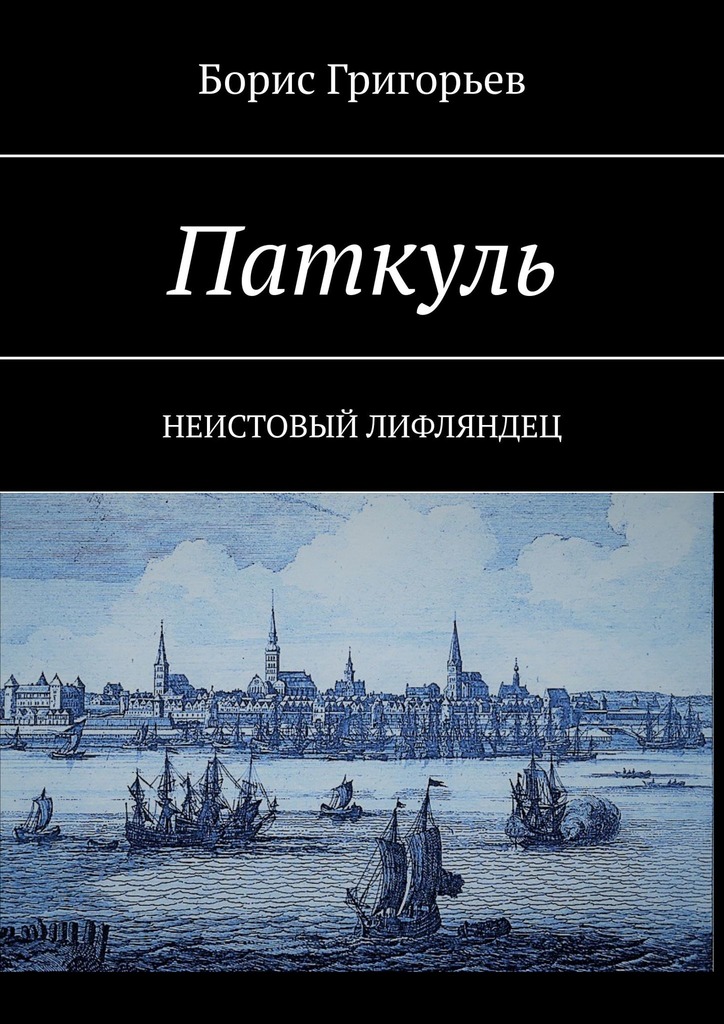подготовить его к казни? Как зовут несчастного? Имя его Паткуль.
Воображаемое колесо жизни сомкнулось вокруг реального колеса смерти. Пастор Хаген снова встретился с Паткулем, с которым он несколько лет назад случайно столкнулся на московской улице, когда в составе шведского посольства прибыл в Россию. И вот теперь он должен проводить его в последний путь. Воистину неисповедимы пути господни!
Пастор Л. Хаген воспринял свою миссию серьёзно и основательно. Он оставил потомству свои записки, благодаря которым мы знаем теперь, как прошли последние минуты жизни нашего героя. В них Паткуль предстаёт обычным смертным со всеми человеческими недостатккми и слабостями, но как человек. Беспристрастный стиль записок Хагена с неподражаемой точностью передаёт весь трагизм ситуации, в которой оказался Паткуль в ожидании страшной казни.
В воскресенье, 29 сентября в три часа пополудни Хаген вошёл в помещение, в которой лежал обессиленный Паткуль. Рядом с ним находился дежурный офицер – вероятно, начальник стражи майор Гротхюсен. Капеллан попросил майора оставить его наедине с осуждённым – он должен говорить с ним без свидетелей. Паткуль, превозмогая слабость и тяжесть от цепей, поднялся со своего ложа и поприветствовал пастора. Хаген внимательно посмотрел на высокую мужественную фигуру Паткуля и подумал, что этот человек вряд ли нуждался в длительной подготовке для того, чтобы узнать свою судьбу. Без всяких околичностей швед сказал, что на следующий день он должен умереть.
К своему удивлению Хаген увидел, как приговорённый после этих слов бросился на своё ложе и облился слезами.
– Как, вы не ожидали этого? – удивился пастор.
– Нет, конечно, я ждал этого, – ответил Паткуль, – но смерть слишком тяжела для меня.
Возможно, Паткуль надеялся предупредить казнь смертью от истощения? Или он предчувствовал, какие страшные муки приготовил для него Карл ХII? Или его испугало роковое слово «завтра», а потому он так огорчился? Вероятно, всё вместе подействовало на него таким образом, что он потерял самообладание.
Впрочем, пишет Хаген, он быстро успокоился и «попросил Иисуса даровать ему мягкую смерть». Но Паткуль не был бы Паткулем, если бы земное в нём снова не возобладало и полностью не захватило его мятежную натуру.
В первую очередь он направил свой гнев на короля Августа и он предсказал ему скорую расплату за всё содеянное. А потом …потом его мысли вернулись вспять к тем временам, откуда всё начиналось – к редукции в Лифляндии. Напрасно пастор взывал к сознанию Паткуля думать о вечном, а не о преходящем – остановить поток обрушившихся на него слов он был не в состоянии. Они вырывались из глубины изболевшей души и сотрясали всё его немощное тело.
– Ах, мой дорогой пастор, моё сердце – сплошной нарыв, полное старой злой материи, которая не лечится, а должна выйти наружу. Позволь мне высказать всё, что наболело на сердце! – вырвалось из груди Паткуля.
– Редукция, которая многих превратила в бедных, виновата в том преступлении, которое мне приписывают, – продолжал Паткуль. А он всего-навсего боролся лишь за права своей родины. Карл ХI, по мнению рассказчика, хорошо это понимал и хвалил Паткуля за подобное усердие, но злые люди истолковали это по-своему и превратили его в преступника. Хастфер, который сначала совратил Паткуля, потом ослепил, а в конце – преследовал, во многом способствовал такому развитию событий.
Пастор Хаген молча внимал разгорячённым речам осуждённого и никак не мог отделаться от мысли: когда же Паткуль начнёт говорить о том, что его самый главный враг – он сам. Но Паткуль всё ещё не мог расстаться со своим прошлым и продолжал говорить о процессе над ним в Стокгольме 1694 года, о неблаговидной роли, сыгранной на нём прокурором Бергенхъельмом, о предательстве баронов, сваливших на него всю вину и устранившихся от ответственности. Его обвиняют в том, что перешёл на сторону противника и разжёг костёр войны.
– А куда же мне было идти? – произнёс он дрожащим голосом. – Я пошёл к королю Августу как бедный изгнанник, а не как советчик или предатель, потому что на это меня никто никогда не считал способным. Когда я прибыл в Саксонию, всё уже было готово, сговор с Данией уже состоялся, договор с Москвой подписан, и в то время я не пользовался у них никаким авторитетом.
Хаген слушал и не верил своим ушам: неужели Паткуль и сам верил в то, что говорил? Неужели его подопечный и на краю могилы не хотел осознавать свою долю ответственности за то, что произошло за последние десять-двенадцать лет? Уж не специально ли он убедил самого себя в полной невиновности и теперь искренно верит в собственный вымысел? Или всё это было специально рассчитано на Хагена, последнего свидетеля его последних минут жизни, который мог бы передать людям образ непреклонного и безукоризненно чистого борца за идею?
А ведь мы помним, что такие минуты исступлённого вдохновения и откровения находили на Паткуля и раньше: это случилось в беседе с пастором Темпельманном в феврале 1700 года и повторилось при встрече с ротмистром Ройтцом. И тогда Паткуль «воспарял в облаках» и рисовал фантастические картины действительности, как будто пытаясь в чём-то перед ними оправдаться.
Наконец Хаген не выдержал и снова напомнил Паткулю о том, что он напрасно теряет драгоценное время, цепляясь за своё земное прошлое. В ответ на это Паткуль судорожно схватил пастора за руку и вскричал:
– Ах, дайте мне ещё немного времени, чтобы рассчитаться со всем земным, потом я уж не пророню об этом ни одного слова.
И он продолжил повествование о своей карьере при двух монархах – теперь уже в точности, как он делал 7 лет назад для пастора Темпельманна. Ему как бы хотелось ещё раз посмотреть на себя со стороны и убедиться в своём историческом значении. Теперь уже он не рассказывает, а хвастает. И он фантазирует. Он приписывает себе такие поступки и деяния, к которым не имел касательства. И он снова хочет оправдаться в своей непричастности к Северной войне – хотя бы в глазах одного пастора. И снова слова ненависти в адрес Августа – лицемерного, коварного, двуличного.
Хаген больше не выдерживает, прерывает разговор и уходит, пообещав прийти к Паткулю вечером.
Когда пастор Хаген с тяжёлым сердцем в 7 часов вечера открывал дверь в камеру к Паткулю, он тотчас же увидел перед собой другого Паткуля – спокойного и умиротворённого – и мысленно поругал себя за то, что несколько часов тому назад пытался остановить его отчаянную исповедь. Она пошла ему на пользу – выговорившись, Паткуль успокоился и приготовился к новой встрече с капелланом. Она прошла совершенно иначе, нежели первая.
Паткуль поприветствовал своего пастыря и сказал, что совесть его теперь успокоилась, в душе его нет больше места обиде, ненависти, честолюбию и лжи. Не жаловался он и на то, что скоро лишится жизни.
– Уж лучше сразу умереть, чем сидеть в тюрьме до конца жизни, – сказал он. – Только я не хотел, чтобы меня долго мучили.
И он спросил, не знает ли пастор того, каким способом его будут казнить. Хаген не знал – на самом деле. В тайну приказа Карла ХII он посвящён не был.
Сразу после этого Паткуль продиктовал своё завещание. Его состояние заключалось в основном в долгах к нему короля Августа! Король-предатель оставался должен Паткулю около 50 тысяч талеров. Паткуль надеялся, что у короля проснётся совесть и что он вернёт одолженные деньги его наследникам. Треть своего состояния Паткуль завещал своему секретарю – очевидно, Хайнриху; вторую треть он просил отдать своим племянникам, сыновьям брата Карла, на выкуп имения Кегельн в Лифляндии; остальное причиталось ещё одному племяннику, служившему в шведской армии.
После этого они совершили молитву, и Паткуль подтвердил, что ему стало намного лучше. Но потом его снова охватил страх и он воскликнул: «Только бы они меня не долго мучили!» Потом он заявил, что с чистой совестью хотел бы оплатить свои грехи собственной смертью.
– А король Карл милосердный человек? – вдруг совершенно по-детски обратился он к пастору.
Хагену, естественно, ничего не оставалось иного, как ответить утвердительно. Как странно: Паткулю отлично были известны и «милосердие» и «доброта» Карла ХII, но он задал этот наивный вопрос, получил вымученный ответ и удовлетворённо вздохнул: «Ну и слава