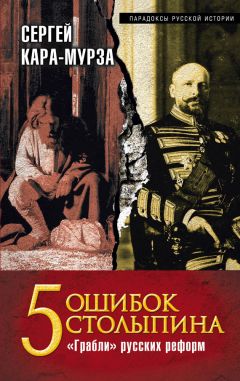Зажигая костер для шашлыка, Саша мимоходом бросил:
— Да будет огонь, как сказал Прометей.
Немец опять дернул меня за рукав:
— Поверь, Сергей, в Германии не найдется ни одного рабочего-строителя, который вдруг сказал бы такую фразу.
При этом он явно не имел в виду турок, говорил о немцах.
* * *Сложнее всего было утрясти понятие свободы, наблюдая за Колей-таджиком.
Приехал он откуда-то из-под Курган-Тюбе, из самого пекла, с выбитым глазом и поврежденным лицом. Трясся от холода, и я дал ему шинель и мою старую телогрейку. После него она навсегда пропахла запахом горя и бедности. А ведь он в своем городке принадлежал к элите, был фельдшером скорой помощи. Теперь он превратился в какое-то двойное существо. Однажды он собрался в город — кажется, звонить домой. Надел костюм, в котором приехал, галстук. Вышел из вагончика другой человек, его было не узнать — интеллигентный, элегантный, уверенный в себе.
В Коле жила глубокая, животная тоска по советскому строю. Я встречал ее и в других таджиках из «горячих» мест. Стоило ему чуть-чуть выпить, он встревал в любой разговор и без всякой с ним связи вдруг сообщал:
— А у нас старики говорят, что через семь лет Советский Союз восстановится.
О проблеме свободы в связи с Колей я вспомнил потому, что в нем явно созрело неосознанное желание стать рабом. В простом, буквальном смысле слова — при том, что духовно он был человеком именно свободным и даже несгибаемым. Мы по инерции еще этого не понимаем, верим в исторический прогресс, хотя рабство в конце ХХ века становится общемировой реальностью. У нас наготове отговорка — то Бразилия, Филиппины, а мы же просвещенная страна, поголовно с высшим образованием. На деле-то оказывается, что никаких препятствий к тому, чтобы принять рабство, ни высшее образование, ни просвещение не создают. Но о философии грядущего рабства надо говорить отдельно. Я скажу конкретно о Коле-таджике.
Его сознание сузилось на одной мысли — прокормить пятерых детей, которых он оставил дома. На «скорой помощи» он получал зарплату 16 нынешних рублей — на пять буханок хлеба в месяц. Вот и пришлось ему найти шурина и попроситься к нему в бригаду. Но это было не фундаментальное решение вопроса. Видно было, что инстинктивно он готов к тому, чтобы продать себя именно в рабство. Если бы нашелся человек, который сказал ему: «Будешь моей собственностью, а я обязуюсь кормить тебя и твою семью», — он бы, думаю, согласился. Да, пожалуй, и русских таких уже немало. К радости нашей демократической интеллигенции. Она велела нам выдавливать раба по капле — а вливала лоханками.
Делать Коля ничего не умел, да и был очень щуплым. Никто в бригаде его не попрекал, кроме Саши (платил-то он). Но дело было не в попреках или прочих мелочах, это была проблема бытия. В Коле проснулась роль раба — он страстно желал услужить всем. Услужить бескорыстно, бесплатно, исходя из сути своего положения, а не по принципу «ты мне — я тебе». Это далеко выходило за рамки и благодарности, и дружеского расположения.
Такое поведение для нас вещь необычная и, я бы сказал, труднопереносимая. Идешь, тащишь на плече лестницу. Тут же откуда-то вылетает Коля, кланяется и начинает у тебя эту лестницу с плеча срывать — он отнесет. Распиливаешь на станке доску — подбегает с умоляющим глазом, позвольте помочь. Сразу доску перекосит, пилу заклинит, ремень у станка рвется. Сядешь наточить ножовку — он тут как тут. Прощай, ножовка, ее будет трудно исправить. Отказать ему было нельзя, видно было, что в нем что-то происходит, он не в себе.
Когда стало подмораживать, Коля совсем загрустил. С чем он уедет домой? Как-то разрешил вечером Саша выпить, завели в вагончике песни, а Коля пришел ко мне.
— Как жить, дядя? — слезы ручьем из пустой глазницы.
— О чем же вы думали, когда русских гнали и советскую власть свергали?
— Да разве это мы? Это же все из Москвы шло.
— Теперь терпеть надо, быстро не выправить. Видите — собака воет, а терпит.
Это брошенная кем-то собака, чуя холода, пыталась с воем пролезть через щель ко мне на террасу. Надеялась, что если окажется за дверью террасы, то и в дом рано или поздно я ее пущу.
— То собака. А мы все-таки люди, а не собаки.
— А это, Коля, еще не факт.
Сорвались у меня с языка эти злые слова. Но ведь мы сами уничтожили благополучие и справедливость нашей жизни. Конечно, жалко наших людей, по мере сил надо поделиться телогрейкой и капустой. Но обманывать не хочется, даже совсем уж невинную собаку. От всей души желаю, однако, чтобы отлились слезы из выбитого глаза этого таджика тем, кто обманывал его и ему подобных.
Но я отклонился. Вопрос-то о рабстве и свободе. В одной пьесе про Эзопа финал — это гимн свободе. Обвиненный в краже Эзоп, накануне получивший вольную, может спасти свою жизнь, объявив себя рабом. Но он не желает. Он кричит: «Где тут ваша пропасть для свободных людей!». Посмотрев на Колю, я подумал, что Эзоп так расшумелся потому, что в нем еще бушевала душа раба. И эта гражданская свобода была для него высшей ценностью.
Коля-таджик всю жизнь прожил свободным человеком — это в нем и увидел мой немец, привыкший к гражданскому обществу Запада, к свободе Эзопа. И как свободный в душе человек, Коля ощущает на себе груз ответственности, какой не имеет раб. Он отвечает и за детей, которых родил, не ведая о грядущей демократии. Отвечает за своих стариков, за свой поселок, за Советский Союз, который должен возродиться через семь лет. И чтобы поддержать всю эту жизнь, он готов пойти в рабство. Рабство — терпимое неудобство, небольшое по сравнению с его ответственностью. Это — попытка именно свободного человека, доведенного до крайности и не видящего выхода. Наверное, плохая попытка, но нам, не прошедшим через Курган-Тюбе, еще трудно о ней судить. Мы еще плачем обоими глазами.
* * *В моем pяду участков, в ближнем окpужении, поселились Сеpгеи и Виктоpы — чеpез одного. Ближайший Виктоp pедко появлялся — только каpтошку сажал, пpиезжал pазок с семьей колоpадских жуков вылавливать, а в сентябpе выкапывать — сокpушаясь каждый pаз ничтожному уpожаю. Все лето чеpез заpосли буpьяна, скpывавшего побеги каpтофеля, у меня был пpямой контакт взглядом и голосом с Сеpгеем Виктоpовичем, известном как Сеpега.
Могу себе пpедставить, как нелегко было жить в русской общине. Стоит выйти на двоp и встpетиться взглядом с соседом — и ты втягиваешься в его проблемы, начинаешь пеpеживать его беды. А он втягивается в твои, что тоже не всегда желательно. Но такова наша жизнь, «дpугих соседей у меня нет». Отклонить взгляд — это уже недpужественный акт. А поставить высокий забоp — почти объявление войны. Забоpы созpевают постепенно.