Своими увлеченными занятиями живописью и музыкой мама по существу давала мне и брату пусть не систематическое, но постоянное и воодушевленное художественное воспитание. До своих четырнадцати лет я без конца рисовал и успешно занимался музыкой (успешно не по моему собственному суждению, а на самом деле, потому что весной 1918 года я в своей музыкальной школе при Консерватории был переведен через класс). Но в конце 1918 года все это пришлось бросить, резко, сразу и навсегда. Я не стал ни художником, ни пианистом, но в душе, вероятно, прочно отложилось это доброе влияние матери, вскоре давшее решающие для меня результаты.
И моя мать, и мой отец горячо любили нетронутую природу и старались, чтобы мы бывали среди природы как можно больше. Начиная с ранней весны и до глубокой осени мы не только жили на разных дачах недалеко от Саратова, но и много странствовали по Саратовской губернии, то в телеге, устланной душистым сеном, а то и на великолепном белоснежном пароходе компании «Самолет» по Волге. Я запомнил многие названия деревень, маленьких городков или рек: Аткарск, Ельшанка, Гусёлка, Аркадак, Вертуновка, Кумысная поляна, Базарный Карабулак, да и Зеленый остров, и Покровская слобода на другом берегу Волги против Саратова, но в зрительных воспоминаниях они перепутались и слились в одно общее ощущение прекрасной саратовской природы — я не могу уже «приурочить» впечатления от нее к точно определенным местам, где был или только проезжал. Помню, конечно, Волгу — как отец брал меня с собой в Вольск или на острова. Но во всех путешествиях в моей памяти прежде всего мама и ее восхищение красотой лесной речки или цветущей весенней степи. Мама моя не знала никаких наставительных или назидательных разговоров и лекций; она просто радовалась природе, и это действовало на нас, ребят, покоряюще неотвратимо (и необратимо!). Именно под таким непосредственным, словно вспыхивающим влиянием моей матери я на всю жизнь проникся глубочайшей нежностью к деревьям, цветам, травам и всяким живым существам на суше и в воде, и для меня так и осталось до сих пор венцом совершенства мои любимые дикие цветы — ночная фиалка, гусиный лук, всякие виды вероники, дымянка и т. д., как и скворец, и трясогузка или жаба. Мама моя любила, чтобы в доме у нас всегда были цветы, и в букетах, и в горшках; больше всего она любила гиацинты, и эта любовь перешла ко мне по наследству.
До 1915 года мы обитали в небольших и невзрачных квартирах, не раз менявшихся, которые совершенно испарились из моей памяти. Но в 1914–м или 1915 году отец получил повышение по службе и потому, видимо, мог отыскать более просторное и комфортабельное жилище. Я и мой брат были отправлены на все лето 1915 года к отцовской старшей сестре Елизавете Николаевне Ольшевской, которая постоянно жила на своей даче на станции Загорянской, под Москвою. С матерью моей осталась только моя сестра Екатерина, родившаяся в 1913 году. О пребывании у тетки и о моей первой встрече с Москвой я расскажу в свое время. Но о большой новой квартире, с огромным удовольствием и огромным вкусом устроенной в наше отсутствие моей матерью, как и о ней самой на фоне этой квартиры, и о людях, туда приходивших, — я скажу особо и подробно: эта квартира сыграла очень большую роль в моей жизни.
В новой квартире нам пришлось жить очень недолго: с осени 1915–го до осени 1918 года. Но для меня эти три года, когда мне было десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать лет, стали временем окончательного сложения моего характера и душевного мира, а также временем, когда я полностью впитал — все, что смог и сумел — из душевного богатства моей матери, которое она так щедро дарила всем, кто попадал в круг ее влияния. Кроме того, ведь эти три года были последними годами моего детства, накануне преждевременной взрослости.
Отец нашел действительно прекрасную и очень большую квартиру (в ней было восемь комнат) в самом центре города, на Немецкой улице, в той ее части, что была между Консерваторией и высокой немецкой католической церковью с двумя островерхими башнями по сторонам входа. Квартира находилась на втором этаже над огромным и очень высоким магазином тканей и ковров, так что фактически на уровне обычного третьего этажа (по тем временам это казалось очень высоко). Других квартир в доме не было. С улицы в нашу квартиру вела довольно узкая и бесконечно длинная лестница в один марш, которая начиналась в соседнем доме, по другую сторону ворот, ведших во двор, и где‑то далеко вверху поворачивала влево и над воротами подходила к нашей квартире. На улицу выходили три одинаковые высокие и просторные комнаты: левая (если смотреть изнутри) — отцовский кабинет и гостиная, центральная — столовая, правая — моя с братом. В глубине квартиры за нашей комнатой находилась спальня родителей с верхним светом, там обитала и наша маленькая сестра. Еще дальше, с особым входом из коридора, был небольшой и невысокий кабинет моей матери, с маленьким неоткрывавшимся окном в соседний двор, с матовым стеклом в разноцветных узорах. Один угол этого маминого кабинета был отрезан винтовой лестницей на антресоли, где в маленькой комнате жила прислуга — сначала наша нянька, а потом горничная Даша и кухарка. Из столовой шел длинный коридор, мимо спальни родителей и кабинета мамы — в кухню и большую пустую переднюю с выходом на улицу, а дальше была очень большая длинная комната, прозванная «конторой», — это была рабочая комната пятерых помощников и сотрудников моего отца (я никогда не видел, чтобы туда приходили посторонние посетители). Слева вдоль этой «конторы» шел длинный коридор к другой, гораздо более парадной лестнице в несколько маршей, выходившей во двор нашего дома. Ею не пользовались; какой‑то недолгий срок там обитала большая черная собака доберман — пинчер с целой уймой новорожденных щенят (в Саратове говорили не щенят, а кутят). Этих кутят было так много, что они не могли питаться все одновременно, и пока одни сосали, другие хором пищали. Почему‑то им не отрезали, согласно эталону породы, длинные уши и очень длинные хвосты. Куда девали эту собаку с ее потомством — не помню.
Эта квартира представлялась мне неким уединенным островом, где у каждой комнаты была своя душа, иногда даже немного таинственная, как в мамином кабинете или в комнате прислуги, куда я никогда не подымался. В отцовском кабинете стояли три книжных шкафа (сохранился лишь один, стоящий в моей нынешней комнате со старыми отцовскими книгами), потом его большой письменный стол, с сохранившейся у меня двойной стеклянной чернильницей и с бронзовой статуэткой орла на скале; перед столом стояло деревянное кресло с двумя ручками в причудливом тогдашнем стиле «модерн», очень удобное, на котором я сижу, пишучи эти мемуары. В этой же комнате находился мамин рояль. Сюда обычно приглашали пришедших гостей, а мы с братом бывали там редко (не считая музыкальных занятий). Столовая была центром и средоточием общей повседневной жизни; она была нарядно обставлена новой мебелью с большим обеденным столом посередине комнаты — там все собирались трижды в день. На простенке у одного из окон по сторонам часов висели красивые полочки из светлого дерева, украшенные мамиными акварелями; по другую сторону от двери в отцовский кабинет, над диваном, — большая и страшно подробная карта Европы, по которой мы каждый день следили за ходом военных действий на всех фронтах Первой мировой войны. В нашей с братом комнате имелся мой книжный шкаф и у каждого по своему столу: у меня — письменный стол с тумбочкой, наполненной множеством тетрадей, у Мити — старинный стол красного дерева с двумя ящиками, на вычурно изогнутых ножках. Из того, что висело на стенах, я запомнил только большую карту полушарий, которую я знал наизусть.
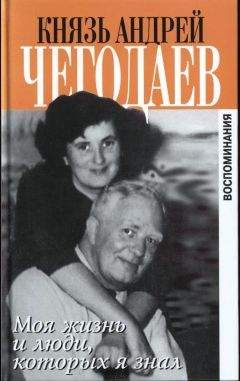
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)


