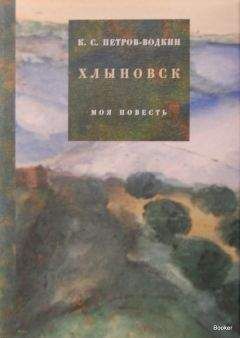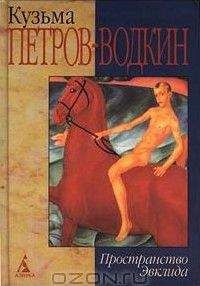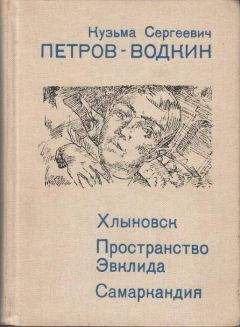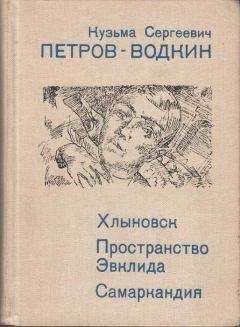в стороны.
Знакомо это мне было: сейчас начнутся вопли женщин, очистится место, на котором в пыли будет лежать серая груда тряпья с запекшейся кровью.
Знакомо, но непривычно. Мутит, сдавливает дыхание, а деваться некуда… Ничью сторону не возьмешь: мои все они — и опорки и лапти. Я им хочу радости жизненной — они ее заработали веками!
У меня не было жалости, была скорее злоба на дикую разнобойщину и на несплоченность моих отцов…
Я пошел за околицу. Навстречу проехал урядник, — видно, с графского хутора мчался он наводить порядок. Багровело его лицо от водки и от предвкушаемого действа толпы. Пыль завилась об меня, и тележка скрылась.
Жара свалила, или это после духоты площади показалось мне прохладнее за околицей.
С изволока, на который я поднялся, видна стала Волга с займищами и с Заволжьем, окутанным маревом прилегшей к степи жары. На севере синел Федоровский Бугор: туда, за синюю стену, пробиться надо мне! Иначе изневолюсь я в гуще моих близких, и, может случиться, с сердечником в обхвате подымутся и мои руки на отцов и братьев — от тоски, от безвыхода и от водки…
Я бросился наземь.
Моменты перемен положения нашего тела очень часто меняют психическое наше состояние. Об этом свидетельствуют жесты больших волнений, к которым прибегают люди.
Наблюдавшие близко детей знают одно, типичное для младенческого возраста, явление.
Ребенок чем-то взбудоражен. Гримаса его лица говорит о его расстроенности, он готов зареветь. В это время мудрая няня подсунет ему предмет — игрушку или покажет новый жест, и этой сдвижкой на новую установку глаз она обновляет зрительное восприятие ребенка, и психоз его нарушен. Ребенок расплывается в улыбке, желая сказать: «Ах, вот оно что: этого я еще не видел за мою практику!» И причина расстройства делается незначительной и растворяется в здоровом осведомительном общении с окружающими ребенка предметами.
В детстве я много качался на качелях, кувыркался на трапециях, прыгал через значительные препятствия и с довольно большой высоты, но, очевидно, в ту пору мне не удавалось координировать мое движение с происходящим вне меня в пейзаже и в архитектуре: изменение горизонтов и смещение предметов не затронуло тогда моего внимания, во всяком случае, я этого не запомнил.
Но теперь, здесь на холме, когда падал я наземь, предо мной мелькнуло совершенно новое впечатление от пейзажа, какого я еще никогда, кажется, не получал. Решив, что впечатление, вероятно, случайно, я попробовал снова проделать это же движение падения к земле. Впечатление оставалось действительным: я увидел землю, как планету. Обрадованный новым космическим открытием, я стал повторять опыт боковыми движениями головы и варьировать приемы. Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на отрезке шара, причем шара полого, с обратной вогнутостью, — я очутился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшарием небесного свода. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме. Самое головокружительное по захвату было то, что земля оказалась не горизонтальной и Волга держалась, не разливаясь на отвесных округлостях ее массива, и я сам не лежал, а как бы висел на земной стене.
Тогда я, конечно, не учел величины открытия, только испытал большую радость и успокоенность за мою судьбу пред огромностью развернувшегося предо мной мира.
После этого масштаба среди людей показалось мне простым и нетрудным наладить жизнь.
До переезда в Самару у меня уже были встречи с искусстниками. После Андрея Кондратыча, затронувшего мое еще младенческое внимание своими цветными рисунками, натолкнулся я на профессионала-иконописца «древлего обычая», на Филиппа Парфеныча.
Предлог, уж не помню какой, завел меня к нему в избушку на Проломной улице.
В горнице было особенно чисто и опрятно. Мастер сидел у окна за работой. Чка [17], над которой он трудился, находилась в лежачем положении на столе. Прислоненные к стене, стояли доски, которые с графьей [18], а которые еще только в левкасе [19]. Пахло льняным маслом и еще какими-то снадобьями, незнакомыми мне, но приятными.
Первое, что затронуло сильно мое внимание в этот приход, — это разложенные в фарфоровых баночках краски: они сияли девственной яркостью, каждая стремилась быть виднее, и каждая сдерживалась соседней. Казалось мне, не будь между ними этой сцепленности, они, как бабочки, вспорхнули бы и покинули стены избушки. Это впечатление от материалов врезалось в меня на всю жизнь. Даже теперь, когда на чистую палитру кладу я мои любимые краски, во мне будоражится детское давнишнее мое состояние от первой с ними встречи.
Филипп Парфеныч — темно-русый с проседью старик. Ремешком в кружало стянуты его волосы. Он в чистой рубахе и весь какой-то не по-мужицки чистый, вплоть до лоскутных туфель с белыми чулками на его ногах. Самотканая дерюжка ласково устилала до белого воска, без пылинки, пол.
Скоро я понял, что это не просто физическая чистоплотность, — этого требовала гигиена живописи. Такою же представилась мне впоследствии келия Фра Беато Анджелико, где охранял он яркость небесно-синих кобальтов с купающимися в них огоньками вермильонов [20].
У Филиппа Парфеныча узнал я о процессах работы над иконой — от заготовки левкаса до санкирного [21] раскрытия ликов и до движек [22].
Полюбился я, видать, старику моей радостью возле его дела, да и уж очень хотелось самому мне попробовать работы, и вот мастер дал мне прописать на подновляемой иконе травчатые [23] околичности и палаты. Когда мною было закрашено довольно много, Филипп Парфеныч, указывая на кричащие на иконе мои краски деревьев и гор, рассказал мне о том, как всякий цвет требует сдержанности, улаженности между тонами. Жаль мне было расстаться с чистым цветом, хотелось повышенных гамм, но иконописец сбелил яркость и сложной смесью красок приглушил цвет. Тогда я не знал прототипов иконы и думал, что разлука на ней с цветом неизбежна, но мне все-таки мечталось: вот бы написать икону красками Андрея Кондратыча.
Однажды я застал в первой прописи работу Филиппа Парфеныча. Это было изображение Георгия Победоносца. Белый, сверкающий конь рыцаря и пурпурный плащ над зеленым драконом и розово-желтая фигура девушки ошеломили меня неожиданной яркостью.
— Филипп Парфеныч, миленький, оставь все это так, как оно есть! — взмолился я.
Старик задумчиво улыбнулся на мой восторг, видимо, он и сам разделял его под наслоением своих привычек, но икона, после следующих записей, погасла, а последний момент олифенья картины и вовсе разлучил ее с цветом.
Собирал я с Филипп Парфенычем самородные охры,