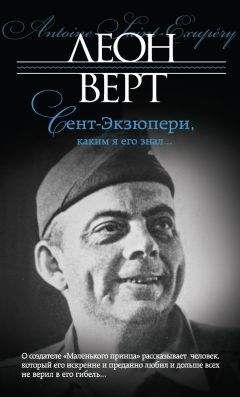На сей счет мы не обменивались значимыми научными мыслями. Я лишь помню, как однажды он взял с рабочего стола, сплошь покрытого рисунками, словно предвосхищавшими рисунки «Маленького принца», экземпляр сборника под названием «В свете марксизма». Пролистав его, он показал мне подчеркнутый пассаж на помеченной странице и сказал: «Ну нет… Это неверно…» Я прочитал и тоже нашел, что «это неверно».
Я забыл текст, относительно которого мы пришли к согласию. Но это касалось не Маркса, а его толкователя. И я не вижу в этом никакого определенного проявления ненависти. К тому же моего друга нелегко было спровоцировать на ненависть. Он даже не выразил ни осуждения, ни презрения. Просто он не был согласен с автором главы.
Это было в 1938 или 1939 году. Не думаю, что в 1944 году он вдруг стал ярым противником философии Маркса. Слова «я ненавижу марксизм» относятся, видимо, к некой группе политиков, чье поведение казалось ему недостойным. Впрочем, это уточнение представляется мне ненужным. Я охотно допускаю, что марксизм никогда не пробуждал у него ни политического, ни поэтического отклика. Но его не коробило, когда я ему говорил, что марксистская философия, пожалуй, не менее музыкальна, чем все остальные полуночные философии.
Но что это за порядок, тот порядок теории и действия, который является одной из основных тем «Цитадели»? Он упоминался или уже излагался в «Планете людей» и в «Военном летчике». Этот порядок совпадает со смыслом царства. Вещи, люди сами по себе ничего не значат, важна лишь связующая их нить.
«Умирают не ради овец, не ради коз, не ради домов, не ради гор… Умирают, чтобы спасти невидимую связь, которая их соединяет и превращает в усадьбу, в царство, в привычный и узнаваемый лик». Это узел, эта связь и есть одна из главных тем «Цитадели».
И этот порядок неколебим? Нет… Ибо «генералы, увязшие в своей безнадежной тупости, путают порядок с упорядоченностью музея». Не следует во имя формальной логики, бесплодность которой он презирал, удивляться здесь кажущимся противоречиям. «Когда их усердие истощается, – говорит Правитель о своих подданных, – распадается само царство…» Следовательно, царство держится на людях. Но Правитель говорит также: «Гниение моих людей – это прежде всего гниение царства, которое и создает людей…» Тогда получается, что люди держатся на царстве, на правилах и традициях царства.
Таким образом, он поступался противоречиями чистой логики. «Я не должен избегать противоречий… Отказ признавать заблуждения – прямое противоречие истине…»
И еще Правитель говорит: «Я никогда не встречал людей, желавших беспорядка, подлости или разрухи…» Тонио, ты пошел дальше Руссо, который верил, что человек рождается хорошим. Но как человек, испорченный обществом, неужели ты и правда никогда не встречал тех, кто желал подлости?
Можно подумать, что я подвергаю это посмертное произведение самой обычной критике. Но на самом деле я продолжаю прерванный диалог. Это к Сент-Экзюпери я обращаюсь, словно в комнате, где я пишу, он все еще полулежит на диване и, приложив два пальца ко лбу, опровергает мои аргументы, не повышая голоса, но чуть более торопливо.
Вряд ли можно представить себе Правителя произносящим и такие слова: «А почему незаконное притязание на право не равнозначно неоспоримому праву?» Ответ Правителя таков: «Я желал, чтобы не путали жалкую справедливость и высшую справедливость, которой я служил… И где начинаются права человека… Я признаю права храма, но не права камней над храмом…» Духовный макиавеллизм? Нет… Однако он не рассматривал – или, по крайней мере, перестал рассматривать – проблемы личные и мировые под углом справедливости. И если в его присутствии упорствовали, обсуждая справедливое и несправедливое, он иногда замыкался в раздраженном молчании. Либо он приводил пример, где было невозможно вынести суждение: справделиво это или несправедливо.
Когда речь заходила о справедливости или о жалости, он не раз приводил в замешательство простые души, которые упорно продолжали видеть в нем обыкновенного героя, отважного в своих поступках, но покорного в мыслях.
Такое пристрастие к порядку, традиции и церемониалу Правитель демонстрирует неукоснительно и твердо. Хотя сам Сент-Экзюпери признавал гораздо больше оттенков. Порядок не был для него ни синонимом военной субординации, ни упоением властью.
Я слышал, как он противопоставлял пылкого сторонника власти и пылкого сторонника свободы. И отказывался давать им определения в соответствии с терминологией политического словаря, которые не лишены лживости, свойственной отвлеченным понятиям.
Однажды он рассказал мне историю старого человека, это был мелкий землевладелец, живший в отдаленной местности вполне архаично. Для этого старика идеальным местом стала Япония. Он говорил, что ничего не надо менять в стране, где упорно сохраняются тысячелетние традиции и где микадо чтут как бога. Когда при нем говорили об ужасающей нищете японских рабочих, он заявлял, что принимать во внимание эту нищету – прискорбная слабость и что нищета этих людей – не слишком дорогая цена за незыблемость традиции.
Сент-Экзюпери считал этого старика глупцом, бесчеловечным чудовищем, но не видел в нем низости. Он отказывался ставить на одну доску этого жестокого безумца, но не садиста с теми, кто предавал традицию. В данном случае он отбрасывал всеобщую мораль, принимая во внимание лишь индивидуальную сущность и развитие идеи или страсти у человека, каким бы комичным и жалким он ни был.
И, если уж говорить начистоту, для Сент-Экзюпери была характерна неоправданная любовь художника к своей модели. В двух-трех словах, возможно, волшебством какой-то верной интонации, наверняка сам того не желая, он нарисовал портрет старого человека, скорее, пожалуй, странного, чем смешного, прогуливавшегося в чужих владениях, ибо своих у него, давным-давно разорившегося, уже не было; в своем охотничьем костюме он напоминал цаплю. Одуревший и хмурый человек взирал на мир, который даже и не пытался уже поторапливать его.
И наверняка Сент-Экзюпери так же беспристрастно и не менее уверенными штрихами набросал бы образ революционера, который полагает, что нет ничего предосудительного в том, чтобы во имя спасения мира уничтожить несколько миллионов буржуа и несколько миллионов инакомыслящих пролетариев.
Один старый провинциальный нотариус однажды сказал мне: «Сент-Экзюпери – человек левого толка…» Не могу представить себе ничего более смешного, чем Сент-Экзюпери в образе человека левого толка, разве что Сент-Экзюпери в образе человека правого толка. И мне жаль тех, кто стремится втиснуть его в подобные рамки.