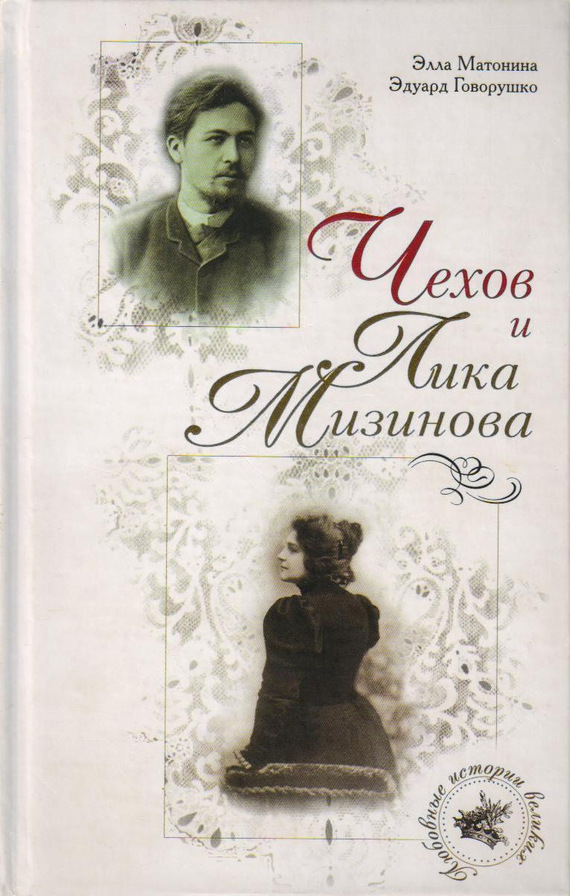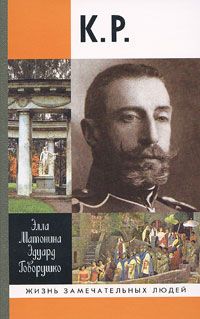знаешь, как расширился и разбогател Художественный? – спрашивал он жену, которой каждый день приносил новости о предстоящих гастролях и об актерах. – Представь себе, у них теперь кроме основной сцены есть филиал в бывшем театре Корша в Богословском переулке. А там ведь уникальная акустика, уютные уборные для актеров, совершенно особый уклад. А на Тверской, 22 организована Оперно-драматическая студия имени Станиславского. Она ему нужна как практика для теоретической книги, которую пишет Константин Сергеевич: «Работа актера над собой». Не помню, что было в этом доме, но там огромный зал с зеркалами, золотая лепнина. Вспоминаю, как нам пришлось мыкаться по разным адресам и арендам. Вот вам и советская власть, ее отношение к культуре!
– Я видела афишу, Саша. Странный репертуар, по-моему. Они привезли «Врагов» Горького, какого-то Тренева. С трудом сообразила, что Любовь Яровая – это имя и фамилия героини. Не смейся. Но звучно, что-то о ярости говорит. И – ничего себе, – поставили «Анну Каренину»!
– Инсценировка романа. Но, согласись, идея замечательная. Как раньше никому не пришло в голову исполнить такой сюжет?
– Но сыграть Каренину… Это как бы заговорить, задвигаться, засмеяться… да-да, засмеяться Пушкиным, крупный риск для актрисы. Хорошо бы увидеть, – каким-то странным голосом сказала Лидия Стахиевна.
– И увидим, Лидусь! – Санин хлопнул в ладоши. – Я кое-что узнал об актрисе. Алла Тарасова пришла в театр через два года после нашего отъезда из России. Говорят, что автор инсценировки и Тарасова едва уговорили Немировича делать «Каренину». Он долго не соглашался. Тарасова тайно, подпольно репетировала, чтобы ему показать. До этого в каком-то клубе выступала с отрывками. Уговаривая Немировича, сказала, что, читая роман, нашла в нем много общего со своей жизнью. А Книппер будто бы по-хорошему позавидовала, что Тарасова «станет творить такой художественный образ».
– Слово-то какое – «творить»…
– Обычная ее псевдозначительность, но завидовать-то ей смысла нет: разница в возрасте огромная…
Оставаясь одна, Лидия Стахиевна с грустью думала: что же они Чехова-то не привезли? Но она не могла при этом с уверенностью сказать, что хотела бы увидеть на сцене и как бы снова пережить собственную давнюю жизнь, особенно «Чайку», с канувшими в Лету разговорами вокруг этой пьесы.
Если сознаться честно, она никого не хотела видеть, не только потому, что постарела, подурнела и была больна. У нее всегда было ощущение, что именно с Художественным театром связаны все ее несчастья. Провал «Чайки» в Петербурге был предзнаменованием будущих бед. Она помнила ту жуткую премьеру: странный гул в зале, смех, ропот, враждебное неприятие, возмущение, свист, хохот публики, тонкие усмешки и реплики: «выскочка, таганрогский провинциал, зазнался, пора урезонить…». Конечно, смеялись над автором и пьесой. Но и ей хотелось спрятаться, исчезнуть. Так много было разговоров о злосчастном ее романе с Потапенко, так искали прозрачные аналогии с нею – в Нине Заречной, Потапенко – в Тригорине, что ей казалось, будто вся она со своей жизнью выставлена на осмеяние, на поругание. Знали бы, где она спряталась в театральном полумраке, показывали бы пальцем, оглядывались. Еще один «сюжет для небольшого рассказа»: романтичная девушка, попавшая в пьесу известного драматурга и писателя…
А ведь Немирович однажды защитил ее, сказав безапелляционно: «Назвали девушку, якобы послужившую моделью для Нины Заречной, подругу сестры Антона Павловича. Но и здесь черты сходства случайны. Таких девушек в те времена было так много…» Вот именно!
И все-таки она всегда станет плакать на «Чайке»… и никогда-никогда не будет радоваться этой пьесе – даже в ореоле ее успеха, ее предназначения в истории русского и мирового театра. Она будет пугаться, бояться «Чайки», как если бы пугалась неожиданного перевоплощения белокрылой птицы в черную ворону, накаркавшую смерть ее маленькой дочери.
И сколько бы Санин ни звал ее на новые удивительные трактовки – бытовые или экзистенциальные, – она не хотела смотреть «Чайку».
После злополучной премьеры в Петербурге Антон Павлович стал чахнуть, таять как свеча. Он изменил ей, Лике, с театром и с другой женщиной – лучшей в этом театре. Театр увлек его – но и заарканил. Когда-то, в пору их влюбленности, она написала Чехову: «А как бы я хотела (если б могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везет!»
Смогли затянуть аркан покрепче. Театр и его прима. Да еще как! Требовали от него пьесу к каждому сезону! Его не жалели, но о любви говорили. И преувеличивали успех пьес. Впрочем, успех все равно громко проявится в будущем…
Она тоже хотела быть в этом театре. Не побоялась неприятия, властной силы этой примы, и не будучи тщеславной, самолюбивой и агрессивной, соглашалась даже на самое малое место в Художественном. Но театр отверг ее.
Смешно и странно: театр отверг и одного из своих основателей, словно чувствовал, что суждено стать ему – основателю – мужем Лики Мизиновой.
Пожалуй, этот театр – не учреждение, не обобщенный образ, а индивид, лукавый и живой, отнюдь не всегда исполняющий священные заповеди, но имеющий крепкий желудок…
Лидия Стахиевна улыбнулась – спокойно и добродушно.
* * *
Санин заехал за нею вечером, чтобы отправиться в театр. Лидия Стахиевна была не одета.
– Хаосенька, милый, что же ты?
– Я не поеду. Я не хочу никого видеть.
Он онемел. Не мог даже сказать что-либо. Бедный! Он ждал радости, воспоминаний, объятий, дружеских слов, счастливых слез – ведь они не были в России целых 15 лет!
Только то, что переживалось с женой вместе, доставляло ему высшее блаженство. Сейчас она оставляла его в одиночестве. На глазах у Санина выступили слезы. А Лидия Стахиевна вынесла из соседней комнаты небольшой, в тонком бумажном кружеве, цветочный горшок с нежно-розовым гиацинтом.
– Это для Тарасовой. Он напомнит ей детство, весну, Пасху. Пусть ей все видится в розовом свете. Она любит гиацинты. Видишь, и я кое-что знаю о советской Анне Карениной…
Лидия Стахиевна поцеловала мужа и выставила за дверь.
– Ну что там? Как? – спрашивала она мужа после спектаклей.
– Тарасова мне понравилась, – говорил он не без обиды на жену, оставившую его в театральном одиночестве. – Есть красота, стать и благородство. Но все немного помпезно, высокопарно. Ну, это если применительно к Художественному, где всегда стремились к мягкой естественности. Знаешь, позавидовал тому, как сделана массовая сцена в картине «Скачки». В хорошем мхатовском духе. Трибуны, движение на них, щебет дам, все глаза направлены на бег лошадей – это как бы край амфитеатра. Вдруг падение Вронского – общий испуг, потом взгляд на Анну и затем на спину Каренина, уводящего со скачек