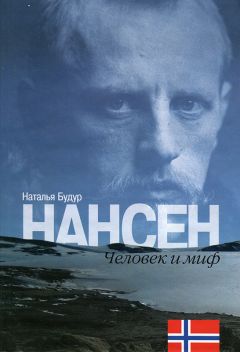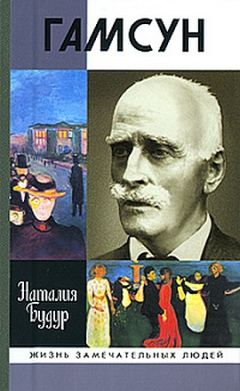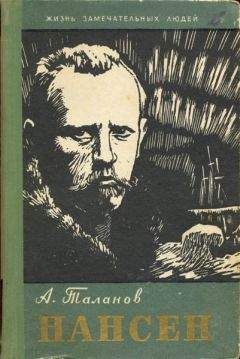Назавтра был её собственный день рождения. Я зашла к ней рано утром, перед тем как идти в школу. Она порадовалась какой-то безделице, которую я сама сшила для неё, и очень ласково говорила со мной. Но, видно, она и сама сознавала, что ей стало хуже, потому что сказала, когда я собиралась уже уходить: „Ну, теперь тебе придётся быть умницей и помогать другим…“
Потом она взяла меня за руку и сказала: „Ну, всего тебе хорошего, дорогая моя большая девочка, — и повторила с большой теплотой в голосе: — Всего хорошего, сокровище моё“.
Никогда не забуду её белого лица на подушке и её любящей светлой улыбки. Я и не подозревала, что вижу её в последний раз, но запомнила это навсегда. Доктор Йенсен в то же утро телеграфировал отцу, который опять гостил в Сандрингэме с норвежской королевской четой.
Эта телеграмма разминулась с поздравительной телеграммой отца ко дню рождения матери.
Мать лежала в постели счастливая, с телеграммой в руке. Может быть, это и позволило доктору Йенсену вечером телеграфировать отцу: „Супруге к вечеру стало лучше, надеемся, опасности нет“.
Доктор просидел около матери всю ночь. Он не отходил больше от неё, а утром ему пришлось отправить отцу весьма неутешительное сообщение: „Супруге, к сожалению, стало гораздо хуже ночью. Состояние чрезвычайно опасное“.
Отец сломя голову помчался домой в отчаянии, что не сделал этого раньше. Он был уверен, что опасность миновала и что доктор Йенсен сделал всё возможное, чтобы остановить болезнь.
К маме теперь никого не пускали. При ней был только Йенсен. Когда-то она сама в шутку сказала: „Нашему милейшему Йенсену придётся когда-нибудь закрыть мне глаза“.
Да, она часто в шутку говорила о смерти. Такой далёкой казалась она ей. Она была так полна жизни, что у неё хватало сил оживлять всех кругом.
„Когда я умру, хочу, чтобы меня сожгли и прах мой развеяли по ветру, — говорила она с весёлым смехом, — и если у тебя будет когда-нибудь дочь, то назови её Евой в честь меня, ты это сделаешь! Тогда я буду продолжать жить в ней после того, как навеки угасну“.
<…> Йенсен не мог сказать ничего утешительного. „Тяжёлое воспаление легких, — сказал он, — сердце всё слабеет. Но она всё время в полном сознании, когда не спит после морфия“. Он был потрясён её духовной силой. Ни одной жалобы на боли, ни тени страха в твёрдом взоре.
„Смерти я не боюсь, но я так много думаю о своих близких“, — сказала она ему.
Она знала, что отец едет домой, и всё время неотрывно думала о нём. Почувствовав близость конца, она произнесла: „Бедный мой, он опоздает“.
Это были её последние слова».
Нансен действительно опоздал — ужасная весть застала его в Гамбурге. Это был страшный удар. Брат Александр смог встретить Фритьофа в Гётеборге.
В своём молитвеннике королева Мод, получившая известие о смерти Евы 9 декабря, записала на родном английском:
«Poor Nansen too late so cruel got news at Hamburg. We at Appleton»[52].
Король Хокон написал Фритьофу:
«Я бы так хотел, чтобы в этой ужасной поездке вас сопровождал друг. Как тяжело вам пришлось одному! <…> Нам так жаль, что мы сейчас не дома и не можем хоть немного утешить вас, если это вообще возможно!»
По воспоминаниям Лив, по приезде у Нансена были совершенно безумные от горя глаза и он рыдал, как ребёнок.
Поскольку крематория в Норвегии в то время ещё не было, для исполнения последней воли жены Фритьоф вместе с доктором Йенсеном повёз тело Евы в Гётеборг. Нансену пришлось найти двух свидетелей, которые подтвердили последнюю волю его жены, чтобы получить разрешение на такую поездку. В Швеции Еву кремировали. Никто не знает, где развеян её прах. Лив полагала, что отец следующим летом, вероятно, развеял прах на даче в Сёркье, прежде чем продать её — поскольку жить там без Евы не мог. Существует также версия, что он высыпал её прах под розовый куст в Пульхёгде. Точно этого не знает никто — это осталось тайной самого Нансена.
После возвращения домой Фритьоф погрузился во мрак своего горя: он почти ничего не ел, не впускал в кабинет дневной свет и ничем не занимался. Он не хотел приглашать врача, поскольку, по его собственным словам, «от этого недуга никто не может вылечить».
Болезнь и смерть Евы были чем-то необъяснимым. Доктор Йенсен писал Сигрун Мюнте:
«Всё течение болезни и сама смерть были так немотивированны и бессмысленны, даже безнадёжны, ведь это был самый здоровый и сильный человек из всех, кого я знал, — и умереть от такой болезни, это просто несчастный случай!»
Нельзя сказать, что фру Мюнте особенно горевала. По свидетельству писательницы и друга семьи Нини Ролл Анкер, во время одного обеда в 1929 году (уже после женитьбы Фритьофа на Сигрун), когда Нини рассказала о том, что одна их общая знакомая лежит в больнице в связи с болезнью сердца, Сигрун ответила: «Так ей и надо»[53].
Так трагически закончилась внешне успешная дипломатическая миссия в Лондоне министра Нансена.
«Прошло две недели после смерти мамы. На пороге стояло Рождество. Я не знала, как пережить это время, — пишет старшая дочь Евы и Фритьофа. — Отец хотел, как всегда, устроить ёлку с подарками и изо всех сил старался, чтобы малышам было весело. Нас просто спас приход Анны Шётт и Торупа. Я уверена, что мы с отцом одни не смогли бы устроить детям настоящее Рождество.
Коре и трое малышей тоже были невеселы. Коре было уже десять, и он сильнее, чем мы думали, тосковал по маме. Но он был мужчиной и не хотел показывать своего горя. Имми было семь, Одду — шесть, а маленькому Осмунду четыре с половиной года, они, наверное, и не понимали как следует, что произошло. Они видели только, что мы серьёзны, и это приглушало их веселье. Да и Доддо, как мы называли фрёкен Шётт и профессора Торупа, посидели с нами в тёмной гостиной, пока отец зажигал свечи на большой ёлке в зале. А когда двери распахнулись и малыши увидели ёлку, полную подарков, в блеске свечей и мишуры, глаза их засветились радостью.
И в этот рождественский вечер мы водили хоровод вокруг ёлки и старательно пропели все рождественские песенки, только голоса плохо слушались нас.
<…> Папа лучше владел собою, чем я. Лишь временами в глазах у него появлялось пугающее меня выражение отчаяния. Но он сразу спохватывался и опять весь был с нами.
Потом я узнала, что утром он ездил во дворец, поздравлять с Рождеством. Один мальчик, который жил на Бюгде-алле, видел, как отец ехал туда на своём огромном вороном коне. Через несколько часов мальчик опять его увидел, отец возвращался назад. Он ехал по улице Нобеля, оттуда по Драмменсвейн, вверх по Бюгде-алле и возвращался той же дорогой, и так много раз подряд. На углу улицы Нобеля и Бюгде-алле стоит деревянный домик моей бабушки, с которым у отца связаны воспоминания о первых днях его совместной жизни с мамой. Целый час отец кружил вокруг этого домика, он ехал шагом в глубокой задумчивости.