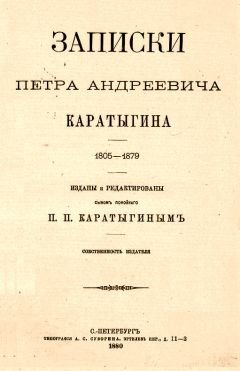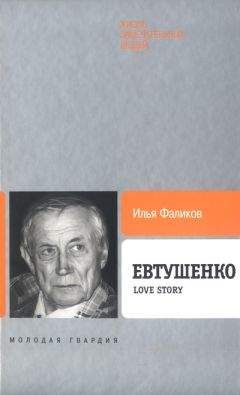Мне дали комнату. Я, конечно, не спал: учил текст. Восемь страниц. Полтора часа поспал, в семь часов был на съемочной площадке.
А там уже все готово к съемке: рельсы для операторской тележки проложены, самолеты гудят, санвзвод на месте. И началось…
Взлетали и садились самолеты, бегали люди, ко мне подходили, что-то докладывали. Говорю громче, говорю тише, куда-то иду, смотрю в разные стороны, как велит оператор, санвзвод бегает, камера трещит… Съемка!
Вместо десяти запланированных дней все было сделано к четырем часам дня! Вместо пяти дней, которые просил Гарин, меня отсняли за девять часов!
Подошел Пырьев и почти сорванным от адской работы голосом прокричал:
– И передай ему, что дерьмо он, а не я! Я-то человек! А вот в нем сохранилось ли что-нибудь? Сегодня же лети, пожалуйста, обратно. Директор! Отправить его немедленно из Москвы в Ялту. Срочно!
Меня сажают в машину, в аэропорту – сразу к начальнику перевозок, потом в самолет. В одиннадцать часов вечера я уже в Ялте. Появляюсь перед Гариным. Он не верит собственным глазам. Я подробно ему все рассказал.
– Ты врешь! Неужели за девять часов? Не может быть! Надо мириться!
После этого случая у Гарина и Пырьева началось новое сближение, возродилось их товарищество.
Эраст Гарин и Хеся Локшина – святая пара. Друг без друга они жить не могли. Детей у них не было. Она относилась к нему, как к сыну, к брату, а Эраст ее заботы принимал с важной и гордой безропотностью, как само собой разумеющееся. Она часто болела, лежала в больницах, и в эти дни можно было ощутить, кем была Хеся для Эраста. Он сникал, худел, мрачнел, старел, обрастал бородой, делался мятым, неуютным и даже злюкой с глазами, полными тревоги, печали и растерянности.
Когда он ушел из жизни, Хеся Александровна сгорела очень быстро. Без Эраста Павловича она стала потерянной, вскоре ушла к нему. Такие пары не забываются. Голубки!
Иван Федорович Переверзев
Улыбнись над своими горестями – горечь их исчезнет. Улыбнись над своим противником – исчезнет его озлобление. Улыбнись над своим озлоблением – не станет и его.
Ян Райнис
Из его письма ко мне: «Здорово, маенькая моя! (Мой друг любил так обращаться к собеседнику, независимо от того, к какому полу он принадлежал). Пишу тебе из больницы… Опять что-то заболело внутри… Даже, если бы не улегся в это заведение, не смог бы сам себя озвучить… потому что стал совсем плохо слышать. Выручай… Тебе позвонят… Не отказывайся… Заранее благодарю тебя. Надеюсь, увидимся и посидим за столом, но… впервые без чарки. Вот так вот, маенькая моя.
Будь здоров. Твой Перевэ».
Подписывая неофициальную корреспонденцию или называя себя по телефону, он не тратил время на то, чтобы выговаривать полностью имя, отчество и фамилию, а оперировал коротким – «Перевэ». Все к этому привыкли, и было бы странным услышать из его уст или прочесть в конце его письма – «Иван Федорович Переверзев».
Мало кто знает, что в картине «Чисто английское убийство» Иван Федорович говорит со зрителем моим голосом. И уж наверняка никто не знает, что это озвучание сопровождалось моими большими усилиями скрыть наворачивавшиеся слезы. Мне трудно было смотреть на экран: я видел там красивого, прекрасно игравшего свою роль, здорового Перевэ, но знал, что он лежит в больнице уже в тревожном состоянии здоровья.
Иван Переверзев! Он из тех русских, чья душа нараспашку, у кого удаль, буйный темперамент, работоспособность, независимость, доброта, смекалка; кто умеет грешить и каяться, широко, красиво загулять, но при надобности вести аскетический образ жизни; кто умеет влюбиться, помогать, дарить, сопереживать. Он из тех русских, которые составляли и составляют неповторимый национальный колорит человеческого характера.
В самые тяжелые дни жизни правдолюбца Виктора Некрасова, автора лучшей книги об Отечественной войне, затравленного только за то, что он честнее и умнее «их», в те дни, когда многие боялись с ним общаться, Иван Федорович, прихватывая с собой меня, фронтовика и поклонника автора книги «В окопах Сталинграда», навещал испытывавшего материальные затруднения писателя. Он приносил с собой и еду, и зелье, тем самым морально поддерживая сникавшего порой талантливейшего художника.
В трудные времена для Владимира Дудинцева, тоже затравленного теми же «цепными псами», Иван Федорович осчастливил меня, взяв с собой на свидание с писателем, преподав таким отношением к опальному урок смелости, добра и сострадания. Трижды прав Василий Шукшин: «Культурный человек – это тот, кто в состоянии сострадать, это горький мучительный талант».
Легко представить себе, как необходимы были подобные визиты людям, попавшим под пресс гонений за правду и ум, за благородство. Никогда не забуду книжную полку в квартире Дудинцева со множеством иностранных изданий его всемирно известного романа «Не хлебом единым». Эта полка, я уверен в этом, была тем эликсиром жизни, который не дал сломаться психологически тонкому, интеллигентнейшему русскому литератору.
Легко представить себе его радость от посещения его дома такими людьми, как Переверзев.
Получив на «Мосфильме» приличные деньги за роль в очередном фильме, в торговой палатке у Киевского вокзала я выбрал себе хороший галстук. Расплачиваюсь и вдруг чувствую на плече чью-то руку. Оборачиваюсь – передо мной Иван Переверзев.
– Здорово. Ну что, отоварился?
– Да.
– Надо «обмыть», а то носиться не будет.
– Надо, – с удовольствием соглашаюсь я.
Пошли в привокзальный ресторан, встретили там компанию знакомых актеров, тоже посетивших кассу киностудии. Просидели в ресторане до закрытия. Как всегда, показалось, что свое еще не досидели, и дружно двинули в аэропорт. В те годы аэропортовский ресторан работал до утра. За все платил я – обмывали мой галстук. К шести утра от полученных денег почти ничего не осталось. Наконец, закрыли и этот ресторан. Наши товарищи разъехались по домам, остались я и Переверзев.
У Ивана было одно удивительное свойство – обаятельнейшая безапелляционность! Даже если он говорил что-то не всегда верное, не согласиться с ним было очень трудно.
– В Ленинград! – скомандовал он.
Почему в Ленинград, зачем в Ленинград? Казалось бы, надо было задаться этим вопросом. Не задался! Иван идет к дежурному, нас сажают в маленький самолет ЛИ-2, салон которого завален мясными тушами, и утром мы уже в Ленинграде. Оказываемся перед дверью квартиры Василия Васильевича Меркурьева – актера Театра имени Пушкина, народного артиста СССР. Иван нажимает на звонок.
– Кто там?
– Это я. Перевэ!
Меркурьев, припав к замочной скважине, громким полушепотом: