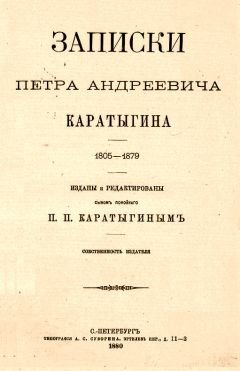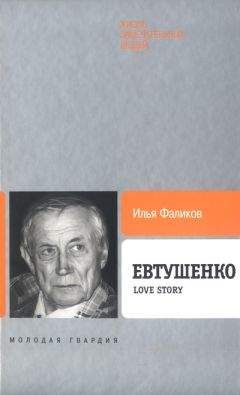Больной, хриплый, небритый иду к нему в номер.
Сидит на ковре и плачет:
– Угощал в ресторане товарищей по киногруппе, прощались. Пришло время платить, я в карман – денег нет. Веня! Сумма большая. Сколько планов было по дому. Семья ждет. Обворовали!
– Спокойно, спокойно! – говорю я. – Где брюки, где пиджак, где плащ, чемодан?
– Все осмотрел, все перерыл. Нет денег, обворовали. Веня! Что делать?
И вдруг я замечаю, что дальний угол ковра на полу почему-то пухлый, приподнят: явно что-то прикрывает. Я к углу, приподнимаю ковер и… вижу пачки денег.
– Да вот они, Бэ-Фэ! – радостно хриплю я.
Он в одно мгновение прекращает плакать, как маленький ребенок, когда ему неожиданно что-то показывают. И со счастливым выражением бодро почти выкрикивает:
– Правильно! Я их спрятал от горничной, чтобы не сперла! Нашел место!
Наш большой ребенок Бэ-Фэ…
Несколько афоризмов Бориса Федоровича: «В отличие от тыквы, голова человека в потемках не дозревает». Или: «Душа, оскудевшая в персональных условиях!» Или: «Великий страдал отложением солей своего величия». Или: «Укушенный зубом мудрости!»
Но самая замечательная его мысль: «Трагедия человечества заключается в том, что оно изобрело атомную бомбу до своего объединения!»
Умный, большущий, добрый Бэ-Фэ!
Вся разница между умным и глупым в одном: первый – всегда подумает и редко скажет; второй – всегда скажет и никогда не подумает. У первого язык – секретарь мысли, у второго – ее сплетник или доносчик.
В. Ключевский
Меня часто посещает какая-то внутренняя тревога, когда слышу безапелляционную болтовню актеров по любому поводу, по любой проблеме – политической, государственной. Человек должен, по моему разумению, заниматься в основном делом, но не болтать, не пополнять ряды дилетантов, которых так много развелось в наше время! Моему сердцу милее мастеровые, умельцы, актеры, художники, изобретатели, спортсмены, отдающие себя любимой профессии. Как правило, они из тех, кого называют добрыми чудаками, никакого отношения к болтунам не имеющими. Болтовня и дело – несовместимы.
Одним из самых талантливых чудаков был незаметный в жизни и быту, но только не на экране и сцене, производящий впечатление какого-то недотепы, – умнейший Эраст Павлович Гарин. Трогательный, беззащитный фанатик театра и кино, загадочный для одних и очень понятный для других. Человек, по свидетельству хорошо знавших его, не произносивший лишних слов, напрочь лишенный риторичности. Все им произнесенное было всегда связано с конкретными проблемами, всегда относилось к сути режиссерской или актерской работы. Он не говорил лишнего и никогда не врал, следуя словам Монтеня: «Как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде».
Он был великим профессионалом и не мог себе позволить отвлекаться на треп, лень. Эраст Павлович был человеком размышляющим, и это качество во многом объясняло его замкнутость и малословие. Невозможно представить Гарина, произносящего с трибуны пламенную речь по поводу работы и судьбы каких-нибудь партий. Это было бы гомерически смешно или… трагично!
Еще: он почти никогда не пользовался иностранными словами. Прекрасно обходился родным языком. Вместо «ромштекс» говорил – «кусок жареного мяса», вместо «бифштекс» – «кусочек мяса с кровью», вместо «коктейль» – «петушиный хвост», что соответствовало буквальному переводу этого английского слова. Не «плагиат» – а «похитил» или просто «спер», вместо «плюрализм» – «несколько мнений», «множество мнений»; не «трактовать» – а «толковать»; не «виртуоз», а «умелец», «мастер», «артист своего дела».
Я не хочу с этими примерами спорить – стоит ли и хорошо или не очень так говорить. Я привожу их только для более конкретного восприятия сути человеческой.
У меня были неоднократные творческие контакты с Эрастом Павловичем Гариным. Я снимался в его картине «Обыкновенное чудо», играл в его спектаклях «Тень», «Двенадцать стульев», часто встречался с ним в его доме. Чаще всего он был сосредоточен, неразговорчив, и лишь внимательный взгляд на собеседника выдавал процесс энергичной душевной работы.
Был строг в работе. Помню, как Гарин снял с роли известного артиста, который и по годам, и по званию был старше его. Снял за два незначительных опоздания на репетицию и нетвердое знание текста. Артист извинялся, но Гарин своего решения не изменил. Сейчас могу твердо сказать, что это заметно укрепило творческую и производственную дисциплину в театре.
На репетиции сам Эраст Павлович приходил всегда первым, задолго до начала, с тетрадочкой в руках, перевязанной веревочкой крест-накрест. Бродил по сцене, проверял ранее изобретенные мизансцены. Графическое решение спектакля для него было если не главным, то одним из важных принципов в постановках. Порой жестом, мизансценой он выражал смысл происходящего на сцене гораздо ярче и доходчивее, нежели словами…
Рассказывать Гарину – комедийному актеру, человеку с очень развитым чувством юмора – анекдоты, смешные истории было занятием неблагодарным. Даже на «шлягерные», как мы говорили, анекдоты он реагировал слабо. А увидев, к примеру, на экране телевизора промахнувшегося или упавшего от неловкого движения футболиста, мог долго от души хохотать, как мальчишка!
Потерпев несколько раз фиаско как рассказчик смешных историй, я стал присматриваться к нему: в чем дело? И понял. Во время рассказа Гарин, хоть и смотрел на тебя, но не слушал, оставаясь в плену своих мыслей. Позже я все-таки нашел способ, как заставить его улыбаться. Все оказалось просто: надо было рассказываемую историю сопровождать показом, подключая мимику и жест. Если история ему нравилась, он хитро улыбался и готов был тут же сам ее пересказать, но на свой лад и уж обязательно с неожиданным, другим концом.
Он нередко бывал рассеян. А ведь известно, что рассеянность – высшая степень сосредоточенности.
Спал на старой железной кровати, провисавшей, как гамак, и никому не позволял ее заменить. В той же комнате, где была эта кровать, находилась богатейшая библиотека, на полках которой можно было увидеть редчайшие книги по скульптуре. Он коллекционировал все издания, имевшие отношение к выразительности рук и кистей, недаром был большим мастером динамики тела, которой увлекся со времен совместной работы с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом.
Он не гнушался застолья. Но мало ел, любил селедку и чай. При жене он не позволял себе и рюмочки водки. Без нее, бывало, позволял то, что иногда приводило к нежелательным результатам.