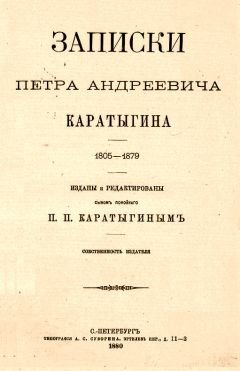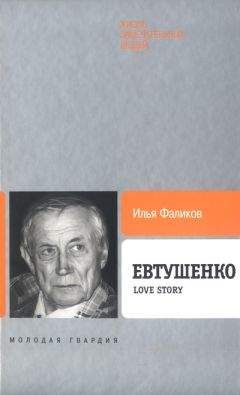Дело, значит, было летом в Малаховке. Я был в гостях у дружка моего. Смеркалось. Неподалеку, за забором в зелененькой травке лежали двое – «атлеты!». Рядом бутылок шесть-восемь портвешка (Алейников только так называл портвейн – портвешок!). Ну притомились трудяги. И вот слышим такой диалог:
– Вася, если мы сейчас встанем – пойдем еще пару пузырей возьмем.
– Коля, а если не встанем?
– Тогда пойдем домой.
– Вот так. Голь на выдумки хитра. Вот видишь, как просто! Никакого ресторана, никакой массовки не нужно…
Поселили на съемках нас с Алейниковым в одной хате. Сцен в фильме, в которых мы оба заняты, было немного, и Петра Мартыновича часто снимали без меня. В очередной раз, оставшись дома, я готовил обед и с нетерпением ожидал моего кумира. Приехал он счастливый.
– Веня! Я такое место для рыбалки нашел! Сказка! Затопленная старая мельница! Омуты! Течение легкое. Я тебе скажу – лучше не бывает! Мечта!
Три оставшихся дня до выходного все свободное время потратили на подготовку к рыбалке. Из Винницы привезли необходимые снасти: удилища, леску, крючки, поплавки, грузила, подсак. Накопали червей-рекордсменов, подготовили подкормку, разные насадки, каши. Вязали, точили, вымеряли поплавки в ведрах, пересматривали лески, взвешивали, варили, мешали, потели, спорили… Наступил долгожданный свободный день. Встали в три часа ночи. Подъехали на «газике» к мельнице. Остановились метрах в двухстах. Рассвет. Подошли к заветным местам.
– Тихо! По-балетному иди, нежно… Вот здесь я сяду, а ты во-о-он там. И молчок. А черт! Самолет полетел (ударение на первом «е»), всю рыбу расшумит, аппетит напугает. Ну да ладно. До вечера-то успокоится. Для ухи все взяли? Молодцы!
Закинули удочки. Молчок. Проходит 15–20 минут.
– Веня, – шепотом обращается ко мне заядлый рыбак, – клюет?
Я руками, плечами, физиономией отвечаю, что – нет!
Проходит еще минут 10–15, повторяется та же игра. Прошло еще минут 5–10. Вижу, партнер сматывает удочки.
– Мартыныч, вы куда?
– Веня, надоело, пойду домой. Ты сиди, сиди… Я пойду. Неудача.
Готовились три дня, встали в три часа и вернулись в четыре тридцать домой!
В этой непоседливости, в неумении ждать, проявлять терпение, организовывать себя на большой отрезок времени, на какую-нибудь цель проявилась, по-моему, самая большая беда великого артиста – отсутствие силы воли. Очевидно, беда эта не позволяла ему отказываться от частых застолий или вовремя покинуть их. Поэтому эта беда надломила его, и он ушел из жизни в возрасте, когда артистическая деятельность только входит в пору зрелости, когда жизненный опыт только-только начинает шлифовать мастерство.
…Он не успел отпраздновать 51-й день своего рождения.
В самом начале 50-х годов маленький коллектив артистов Театра имени Станиславского (и я в том числе) вместе с Алейниковым выехал на десять концертов в Донбасс. Афиша наша выглядела так: красной строкой, то есть большими буквами, была набрана фамилия Петра Мартыновича и маленькими-маленькими – наши фамилии, как сказано было в афише: принимавших участие в концерте. Нас придали мастеру, так как сольными концертами Алейников не занимался.
К сожалению, та же беда – безволие да еще русская лень-матушка – не позволяла ему блистать на эстраде с интересным репертуаром. Алейников ограничился лишь рассказом «Ленин и печник» и редким исполнением в паре со Степаном Каюковым рассказа Чехова «Дорогая собака». Если и были еще какие-то работы для концертных выступлений, то они, очевидно, были настолько эпизодичны, что мало кто из артистов о них знал.
Итак, гастрольная поездка. Первый концерт в Донецке, каждый следующий – в другом городе. Везде на больших, чаще всего открытых площадках. Зрителей – ну просто паломничество! Петр Мартынович появлялся на сцене последним. Все концертные номера, шедшие до его появления, – соло на рояле, сценки из спектаклей, инсценированные рассказы Чехова и Зощенко – принимались сдержанно: чувствовалось, что ждут «явления Христа народу». И вот наступал момент, когда наконец нужно было объявлять фамилию главного артиста. Ведущему не удавалось ни разу этого сделать. Он успевал сказать лишь начало фразы: «И наконец…», или «Ну вот настало время…», или «Вы, конечно, заждались…», или «Я с особым удовольствием…» И все! Дальше у него дело не шло. Везде, как по команде, разражалась овация, зал вставал и не давал Алейникову раскрыть рта. На сцену выскакивали женщины, мужчины, старые и молодые, с цветами, иногда с бутылками вина, водки или шампанского, или все вместе. Его обнимали, целовали, бывало, даже качали на руках (а однажды уронили), наливали прямо на сцене зелье, отрывали пуговицы, преподносили подарки – самые разные: от корзины с фруктами и овощами, сала, бутыли молока до целого жареного барана или поросенка. Не надо забывать, что происходило все это в шахтерских местах, где Алейников был особенно любим благодаря кинофильму «Большая жизнь», посвященному жизни шахтеров, в котором он блистательно сыграл своего знаменитого Ваню Курского…
На двух или трех концертах зрители вели себя поспокойнее, но тем не менее доводили его до слез, что не позволяло ему совладать с собой, успокоить зал и что-либо читать. Иногда он успевал, вытирая слезы, произнести в микрофон лишь несколько слов: «Братцы, да разве ж можно так?» или «Милые, что же это вы со мной делаете?» Это еще больше подогревало ажиотаж зрителей, и, постояв минут пятнадцать на сцене в обнимку с цветами, Алейников, заплаканный, уходил и быстро-быстро уезжал на машине, которая всегда ждала его прямо у ступенек сцены. Теперь, надеюсь, понятно, почему в каждом городе давался только один концерт, а где будет следующий, зрители не знали. Ни на одном концерте гастролер ничего не читал и ничего не рассказывал, но тем не менее в каждой рецензии (а их было десять – соответственно количеству концертов) присутствовало сообщение о том, что наибольшим успехом пользовалось выступление «нашего доброго и любимого Петра Алейникова».
Мы, молодые артисты, были, конечно, влюблены в мастера и в течение всей поездки испытывали чувство некоторой неловкости: дескать, при чем тут мы, сопляки? И только сознание того, что мы до некоторой степени как бы выручали его – все-таки мы держали внимание зрителей довольно долгое время, – успокаивало и позволяло с восхищением наблюдать ежевечерний психологический спектакль «Сила таланта и любовь народа». Это – сильнейшая драматургия! Драматургия, совершенно освобожденная от необходимости что-либо натужно придумывать, врать, приспосабливаться, заниматься «измами», уставать и нести язык на плечах в погоне за модой.
«Талант и народ» – и все!