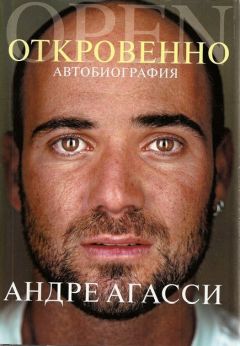В четвертьфинале я встречаюсь с россиянином Кафельниковым, сравнившим меня когда-то с Иисусом. Я ухмыляюсь, глядя на него через сетку: парень, Иисус собирается выпороть тебя автомобильной антенной! Я знаю, что могу победить Кафельникова. Он тоже знает. Все это написано у нас на лицах. Но в начале первого сета, рванувшись за мячом, чувствую, как что-то рвется внутри. Сгибающая мышца бедра. Я стараюсь не обращать на нее внимания, делаю вид, что ничего не случилось, что у меня вообще нет бедра, — и все же оно есть и посылает волны боли вдоль всей ноги.
Я не могу наклоняться. Зову тренера, который дает мне две таблетки аспирина и сообщает, что ничего поделать нельзя. Когда он говорит это, глаза у него становятся размером с фишки для покера.
Проигрываю первый сет. Затем второй. В третьем втягиваю соперника в долгий обмен ударами. Я веду 4–1, публика подбадривает меня криками: «Вперед, Агасси!» Но с каждой минутой я двигаюсь все хуже. Кафельников выигрывает третий сет на тай-брейке. Я чувствую, как слабеют колени. Еще одна русская трагедия. Прощай, Грааль! Ухожу с корта, даже не собрав ракетки.
На самом деле проверкой моих сил должен был стать отнюдь не матч с Кафельниковым. Напротив меня должен был стоять Мустер, любитель потрепать волосы, непревзойденный мастер грунтовых кортов. Конечно, даже если бы я победил Кафельникова, вполне возможно, мне пришлось бы играть против Мустера, хромая на одну ногу. Однако я пообещал никогда не проигрывать Мустеру и собирался сдержать слово. Я уверен: у меня были шансы. Более того: кто бы ни стоял по другую сторону сетки, я мог бы дать ему грандиозный бой. Поэтому, покидая Париж, чувствую себя обманутым. Это был мой последний шанс. Никогда больше я не прилечу в Париж столь сильным и юным. Никогда мое появление не вызовет благоговейный страх в раздевалке.
Я упустил блестящий шанс выиграть четыре Больших шлема.
Брук улетела домой раньше, и мы возвращаемся вдвоем с Джилом. Он спокойно рассуждает о том, как мы будем лечить пострадавшую мышцу бедра, как восстановимся после последних событий и начнем готовиться к предстоящему сезону на травяных кортах.
Мы проводим неделю в Вегасе бездельничая: смотрим кино и ждем, пока заживет бедро. Магнитно-резонансное исследование показало, что повреждение не фатально: мне нужен холод и покой.
Летим в Англию. На Уимблдоне 1995 года я посеян первым номером: ведь в мировой классификации все еще числюсь на первом месте. Болельщики приветствуют меня с радостным ликованием, ничуть не соответствующим моему настроению. Представители компании Nike приехали сюда заранее и вовсю нагнетали ажиотаж, продавая на всех углах «Наборы Агасси»: накладные бачки и остроконечные усики, как у злодея Фу Манчу[28] из старого фильма, и банданы. Я всякий раз поражаюсь, встречая парней, которые стремятся быть похожими на меня, а когда набор примеряют девушки, получается и вовсе форменный сюрреализм. Девушки с бачками и усиками — это зрелище почти способно вызвать у меня улыбку. Почти.
Каждый день идет дождь, но болельщики все равно собираются на стадионе. Они бросают вызов дождю и холоду, терпеливо выстаивают очередь, тянущуюся по всей Черч-роад, — только ради любви к теннису. Мне хочется постоять с ними, порасспрашивать и, в конце концов, понять: за что они его так любят? Интересно, как это — испытывать подобную страсть к игре. Кроме того, мне любопытно, переживут ли дождь все эти многочисленные фальшивые усики или развалятся на куски, как мой старый парик?
Я легко выигрываю два первых матча, затем обыгрываю Уитона в четырех сетах. Как раз в этот день сенсацией становится поведение Таранго: проиграв матч, он затеял драку с судьей, а затем и жена Таранго ударила судью по лицу. Это один из грандиознейших скандалов в истории Уимблдона. И вот теперь, вместо Таранго, я встречаюсь с Александром Мронцем из Германии. Журналисты спрашивают, кого из этих двух соперников я бы предпочел, и мне ужасно хочется рассказать им, как Таранго обманул когда-то меня, восьмилетнего. Но я молчу. Не хочу публичного скандала с Таранго и боюсь вступать в конфликт с его женой. Так что отвечаю дипломатично: мне все равно, с кем играть, хотя Таранго, конечно же, более опасный соперник.
Легко обыгрываю Мронца в трех сетах.
В полуфинале встречаюсь с Беккером. Из восьми наших последних встреч я не проиграл ни одной. Пит уже в финале, поджидает победителя в матче Агасси — Беккер, то есть меня: стало традицией, что любой турнир Большого шлема заканчивается нашим с ним противостоянием.
Я легко выигрываю у Беккера первый сет, столь же непринужденно добиваюсь преимущества во втором — 4–1. Пит, я иду. Готовься! Но тут вдруг Беккер начинает играть сильно, грубо. Он вырывает несколько очков. Пробив брешь в моей самоуверенности, пускает в ход тяжелую артиллерию. Начинает играть с задней линии — совершенно нехарактерная для него тактика — и просто-таки подавляет меня силовым превосходством. Он выигрывает подачу. Я пока впереди, 4–2, но что-то уже треснуло у меня внутри. Не в бедре — в голове. Мысли вырываются из-под контроля. Я думаю о Пите, который ждет финала. О сестре Рите, чей муж Панчо проиграл в долгой, изнурительной борьбе с раком желудка. Думаю о Беккере, которого до сих пор тренирует Ник, — он, еще более загорелый, чем обычно, с лицом цвета хорошо прожаренного стейка, смотрит на нас с высоты беккеровской ложи. Интересно, многие ли из моих секретов Ник выдал моему противнику? А рассказал ли, как я описываю его подачу? (Перед тем как ударить по мячу, Беккер высовывает язык и показывает им, словно стрелкой, в направлении удара). Я думаю о Брук, которая ходила на этой неделе за покупками в Harrods с подружкой Пита, студенткой юридического факультета Дилайной Малкей. Все эти мысли вихрем проносятся в сознании, повергая меня в пучину сомнений и тревоги. Беккер, пользуясь моментом, тут же захватывает инициативу и побеждает в четырех сетах.
Это поражение — одно из самых трагических для меня. После него я ни с кем не разговариваю. Джил, Брэд, Брук — никому из них не говорю ни слова. Я сломлен, раздавлен.
МЫ С БРУК собирались устроить каникулы — долгие, на несколько недель. Хотели отправиться в какое-нибудь уединенное место, без телефонной связи, без людей, поэтому решили арендовать остров Индиго, в двухсот сорока километрах от Нассау. После фиаско на Уимблдоне я собрался отменить отпуск, но Брук напомнила, что мы уже внесли плату за аренду острова и, по условиям договора, она в любом случае не будет возвращена.
— Ну и потом, это же рай, — добавила она. — Нам это нужно.
Я нахмурился.
Наш рай с самого начала напоминал тюрьму строгого режима. На острове — всего один дом, и в нем слишком тесно троим: Брук, мне и моей депрессии.