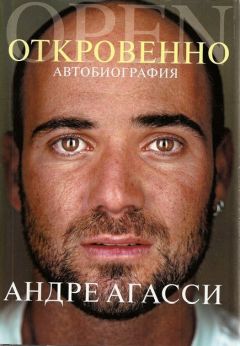Я думаю о великих игроках прошлого, о том, как они пытались догнать Лэйвера, как мечтали выиграть все четыре Шлема. Каждый из них пропускал те или иные турниры, потому что количество их не интересовало. Им нужна была возможность участвовать в каждом из четырех главных турниров. Они боялись не быть причисленными к сонму великих, если один или два главных теннисных трофея сумеют ускользнуть.
Чем чаще я думаю об идее выиграть все четыре Шлема, тем больше она мне нравится. Вдруг, совершенно неожиданно, осознаю: вот то, о чем я давно мечтал. Раньше я отмахивался от этого желания, поскольку оно казалось невыполнимым — особенно после двух подряд поражений в финале Открытого чемпионата Франции. Кроме того, я позволил спортивной прессе и болельщикам сбить себя с пути: это они, не понимая сути, подсчитывают число выигранных игроком турниров Большого шлема и используют эту бессмысленную цифру для оценки его достижений. Выиграть все четыре — все равно что получить чашу Святого Грааля. И вот в 1995 году в Палермо я решил бросить все силы на то, чтобы добыть Грааль.
Брук тем временем решительно гонится за собственным Граалем. Она имеет успех на Бродвее, но ей хочется большего. Гораздо большего. Ее стремление к успеху — словно голод, который ничем не утолить. Она хочет новых ярких ролей. Но с предложениями пока негусто, и я пытаюсь ей помочь. Объясняю, что публика по-настоящему еще не знает ее, а лишь думает, что знает. С подобной проблемой мне тоже приходилось сталкиваться. Кое-кто считает ее моделью, другие — актрисой. Брук необходимо доработать свой имидж. Я прошу Перри подумать над тем, как можно поспособствовать карьере Брук. Довольно скоро у него появляется готовый план действий. Перри уверен: будущее Брук связано с телевидением. Что ей нужно, так это сняться в хорошем сериале. Вскоре Брук уже вовсю занята прочтением сценарртев и поиском проектов, в которых могла бы блеснуть.
Перед началом Открытого чемпионата Франции 1995 года мы с Брук отправляемся на несколько дней на Фишер-Айленд. Нам обоим нужно отдохнуть и отоспаться. Увы, у меня не выходит ни первое, ни второе.
Я не могу отделаться от мыслей о Париже. По ночам лежу в постели, натянутый, как струна, мысленно рисуя на потолке схемы грядущих матчей.
В самолете, уносящем нас в Париж, продолжаю упорно думать о предстоящем турнире, несмотря на присутствие Брук. Сейчас у нее нет работы, так что она смогла полететь со мной.
— Наше первое путешествие в Париж, — Брук нежно целует меня.
— Да, — отвечаю я, погладив ее по руке.
Как объяснить ей, что мы летим совсем не в увеселительное путешествие? Что оно не имеет никакого отношения к нашим чувствам?
Мы останавливаемся в отеле Raphael неподалеку от Триумфальной арки. Брук приходит в восторг от старого скрипучего лифта с металлической дверью, которую приходится закрывать вручную. Мне нравится маленький бар в холле, где на столиках стоят зажженные свечи. Номера тоже небольшие, к тому же ни в одном нет телевизора, это приводит Брэда прямо-таки в ужас. Через несколько минут он уже переезжает из этого отеля в другой, более современный.
Брук говорит по-французски, так что с ней я получаю шанс лучше узнать Париж. Мне нравится бродить по городу без страха заблудиться: ведь Брук, если нужно, будет моей переводчицей. Я рассказываю ей о нашем с Фили первом визите в Париж, о Лувре и картине, так поразившей нас обоих. Она, заинтригованная, просит как можно скорее показать ей это полотно.
— В другой раз, — обещаю я.
Мы едим в модных ресторанах, гуляем по дальним парижским предместьям, куда я ни за что не рискнул бы отправиться в одиночку. Некоторые места кажутся мне очаровательными, но, как правило, эти прогулки оставляют меня безучастным: не хочу мысленно отвлекаться от турнира. Владелец одного из кафе приглашает нас вниз, в старинный винный погреб — пропахший плесенью средневековый склеп, где сложены покрытые пылью винные бутылки. Одну он передает Брук, та вглядывается в этикетку: на ней стоит дата — 1787. Она покачивает бутылку нежно, словно младенца, затем передает мне, пораженная.
— Я этого не понимаю, — шепчу я. — Бутылка. Пыльная. И что?
Она смотрит на меня раздраженно, будто хочет разбить ее о мою голову.
Этим же вечером мы с ней гуляем по набережной Сены. Сегодня ее тридцатый день рождения. Мы останавливаемся у каменных ступеней, ведущих к воде. Здесь я дарю ей свой подарок — бриллиантовый браслет с теннисными мотивами. Брук смеется, когда я надеваю его ей на запястье и пытаюсь застегнуть, возясь с застежкой. Мы восторгаемся тем, как играет лунный свет в его гранях. И тут за спиной Брук появляется шатающаяся фигура: нетрезвый француз прямо со ступеней неподалеку от нас пускает в воду мощную, упругую струю мочи. Обычно я не верю в предзнаменования, но эта картина кажется мне предвещающей недоброе. Увы, пока я не знаю, относится ли оно к чемпионату или к моим отношениям с Брук.
Наконец, начинается турнир. Я выигрываю первые четыре матча, не потеряв ни одного сета. Журналисты и комментаторы видят, что моя манера игры изменилась. Я стал сильнее, больше концентрируюсь на игре. Но отчетливее всего это видят другие игроки. Я всегда замечал, с каким молчаливым пиететом относятся теннисисты к сильнейшему среди них, как они бессловесно выделяют в своей среде того, кто, вероятнее всего, станет победителем. Именно так, впервые в карьере, здесь относятся ко мне. Я чувствую, как смотрят на меня в раздевалке. Изучают каждый мой шаг, малейшее движение, даже то, как укладываю вещи в спортивную сумку. Спортсмены поспешно отходят с моего пути, с готовностью уступают стол в раздевалке. Я чувствую, что уважение ко мне выросло на порядок; и хотя стараюсь не принимать это всерьез, невольно испытываю жгучую радость. Приятно, что так относятся ко мне, а не к кому-либо другому.
Брук, однако, не замечает никаких перемен, относится ко мне по-прежнему. Ночью я сижу в номере, глядя в окно на город и чувствуя себя одиноким орлом на скале. А Брук продолжает болтать о «Бриолине», о Париже, о том, что такой-то сказал про то-то и то-то. Она не представляет всего объема работы, проделанного мной в зале у Джила, не понимает, скольких испытаний и жертв, какого уровня концентрации потребовала моя нынешняя уверенность в себе — и в достижимости поставленной грандиозной цели. Она даже не пытается понять. Ей гораздо интереснее, куда мы пойдем ужинать в следующий раз, в какой винный погреб заглянем. Она считает само собой разумеющейся мою будущую победу; хочет, чтобы я разделался со своими делами поскорее и мы наконец-то смогли как следует развлечься. С ее стороны это даже не эгоизм — лишь ошибочное убеждение, что победа естественна, а поражение — ненормально.