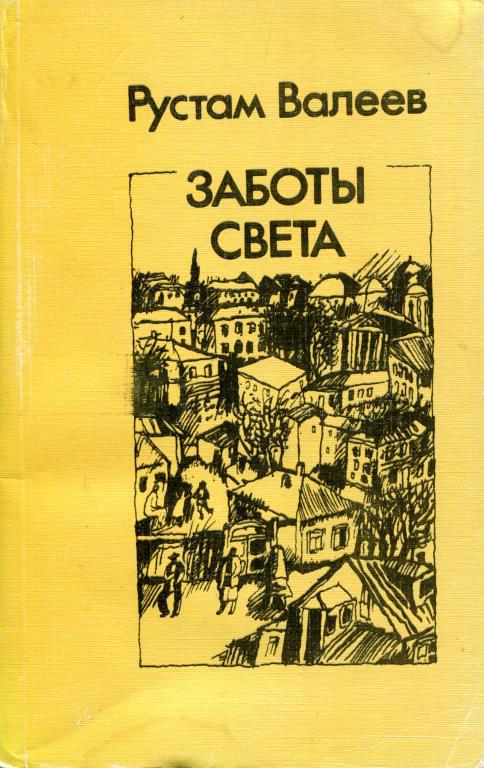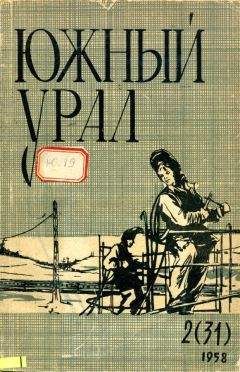издательством.
— Так вот, я думаю, не даст ли эта крайняя мера губернатора какую-то зацепку?
— Утешение слабое, — промолвил Сагит. — Брошюра лишь повод, власти давно уже подбирались к издательству Шарафов.
— Но Гильми Шараф, подозревал ли он об этом?
— Конечно. Два месяца назад он просил губернатора утвердить временным управляющим типографии Казакова.
— Почему Казакова?
— Да потому, что типография в доме Казакова, а Владимир Емельянович милейший человек. Так вот, губернатор отказал. Тогда Гильми попросил передать типографию Шакирову. И тут… подлейшая игра со стороны губернатора: дается разрешение, а следом же поступает распоряжение о закрытии. — Сагит кончиками узких пальцев коснулся виска и резко отдернул руку.
Пришел Бурган, пьяноватый, что ли, с блаженно-печальной улыбкой. Стали расспрашивать его.
— Не знаю, не знаю, — шептал Бурган, — теперь не пятый год, а восьмой. Восьмой, господа! Да, — вдруг вспомнил он, — не обратиться ли к Акчурину?
— Глупо, — сказал Габдулла.
— А я не понимаю, что тут может быть глупого! — резко заговорил Сагит. — Я не понимаю такого пренебрежения.
— Да, да, я тоже, — кивнул Бурган.
Вмешался Фатих, мягко заметив, что не стоит по любому поводу ставить себя в зависимость от Акчурина и ему подобных. Акчурин, наверное, знает, что Шарафы печатали и марксистские брошюры, и помогать не станет.
— Да, да, — и тут согласился Бурган.
— У акчуриных своя забота: свалить епанчеевых, — сказал Габдулла.
— Но при чем тут…
— Свалить епанчеевых, чтобы иметь единоличную власть, и этой властью, но п е р е д о в ы м и методами, карать всякую крамолу. У Епанчеева плетка, а у Хасана-эфенди будет гильотина.
— Нет… то есть да, конечно, — соглашался и вздрагивал Бурган.
В этот момент из коридора донеслись голоса, которые покрыл затем уверенный возглас тетушки Саимы: «Нечего, нечего! Габдулле-эфенди только и дела, что якшаться с шантрапой!» Габдулла подбежал к окну и, перегнувшись наружу, увидел на парадном крыльце Абузарова, Селима и с ними девушку.
— Это ко мне, — пробормотал он, — Селим…
— Революционер, пьющий горькую?
— Сагит!..
Все раздражительны, злы и недоверчивы. В каждом несчастном видят виноватого. Не потому ли, что чувствуют и в себе недостаток мужественности, человечности, способности постоять за идеалы? Мысли эти промелькнули в его голове, когда сбегал он по лестнице к парадной двери.
— Долго же ты, — ворчливо встретил его Абузаров. — Вчера еще искали тебя, такая, брат, новость… Затеял я одно богоугодное дело: женить Селима, пока он вовсе не пропал. Знаешь, кто эта девушка? Эй, не ходите далеко! — крикнул он девушке и Селиму, стыдливо заворачивающим за палисадник. — Так вот, девушку я увел из-под носа у миссионеров. Она сирота и попала к ним, как птичка в лапы коту, пристроили ее в шляпную мастерскую, организованную для таких бедняжек. Кажется, ее не успели еще окрестить. Да и не в этом дело… надо найти для молодых людей уголок. Я предлагал им поехать в Уральск.
— В Уральск?
— Ну да. Ведь там у тебя, должно быть, много знакомых. Упрямцы не хотят ехать так далеко, придется устраивать здесь.
— Как-то неожиданно, не соображу сразу… Ну, а ты закончил свои дела?
— Послал в деревню распоряжение: продать пудов пятьдесят пшеницы. Жаль, берег на случай голода, для крестьян. Ну, ничего, еще куш следователю — и ахуна как миленького упекут в тюрьму… Заговорил ты меня, а молодых, — он подмигнул многозначительно, — надо поскорей устраивать.
— Здесь мои приемные родители. Мальчиком я прожил у них два года.
— Так едем немедленно!
— Прямо сейчас?
— Конечно. Девушку… Эй, Магира! Девушку пока оставим у тебя. Селим поедет в гостиницу, а мы — в слободу. Ну!
Когда-то на тихой улочке слободы в укромном домике прожил Габдулла два безмятежных года. У кустаря-кожевника и его жены своих детей не было. Жили они небедно: кожевник торговал своими изделиями на базаре, жена шила тюбетейки на заказ и разносила по домам. Бывало, с утра еще скажет: «Габдулла, сынок, сегодня пойдем отнесем заказы». Приоденет его, сама наденет новое платье, повяжет новый платок, и отправятся. Ходили в богатые дома, где стояла красивая мебель, зеркала от пола до потолка, громадные, как сундуки, фисгармонии, часы, звонящие как церковные колокола. Однажды он видел павлина — расхаживал по двору, распушив широкий хвост с золотистыми перьями. Возвращался он в радостном хмелю и рассказывал слободским мальчишкам, какие чудеса есть на свете; сидели у стены мечети, на зеленой травке, затем бежали на луг, раскинувшийся между двумя слободами — Старой и Новой. Летал гусиный пух, мальчики бежали за ним и ловили в ладони. Жили в слободе мастеровые — кожевники, шапочники, жестянщики, портные. Семьи были многодетны, небогаты. Словно из другого мира являлась сестра Газиза, которая жила в городе у своей тетки, жены войскового муллы, с гостинцами всегда — то яблоко и урюк, то конфеты.
Вот так бы, наверно, и вырос он в слободе. Но через два года приемные родители оба враз заболели и, решив, что мальчик останется без призора, поспешили отправить его к дедушке, в Училе.
Не сразу нашли покосившийся домик с глухим фасадом, с потемневшими досками кривого забора, Велев гусару обождать, Габдулла вошел во дворик. Дверь в сенцы оказалась запертой изнутри, он долго стучал. Открыла сгорбленная старуха, слеповато вгляделась в него, затем пропустила в темные, пахнущие погребицей сени. Забежав вперед, открыла дверь в избу. В сумерках он не сразу разглядел сидящую на лавке женщину.
— Ах! — вскрикнула она и тут же прикрыла рот платком.
— Мама, это я, — сказал он тихо и шагнул к ней. — Ведь ты узнала меня, правда?
— Да, — еле слышно отозвалась она и заплакала. — Да, да!
Старуха что-то бормотала и то подходила к окну, то бежала к двери. Наконец она заперла дверь на крючок и присела на сундук, не сводя с него слеповатых глаз.
Женщина тихо рассказывала, то и дело прикрывая рот уголком головного платка. Муж умер пять лет назад, она осталась с матерью-старухой. Шитьем тюбетеек не заработаешь на жизнь, согласилась замуж за человека, которого каждый в слободе знает: он один из мюридов Гайнана Ваиси. «Хороший он человек, теперешний муж, только, сынок… если бы ты не приходил так неожиданно. Или, быть может, пришел бы в пятницу, когда дядюшка дома. Или… не знаю, не знаю, у тебя своя жизнь, у нас своя, не судьба была вместе нам жить. Однако как ты худ и бледен».
Он молча встал. Хотелось подойти к ней, обнять и поцеловать, но он не сделал этого и поглядел на дверь. Подскочила старуха и тут же откинула крючок, глухо и трусливо бормоча. Пробежав через сенцы, он услышал шум с улицы, гневные выкрики гусара, чьи-то еще голоса…
Два дюжих мужика держали за руки