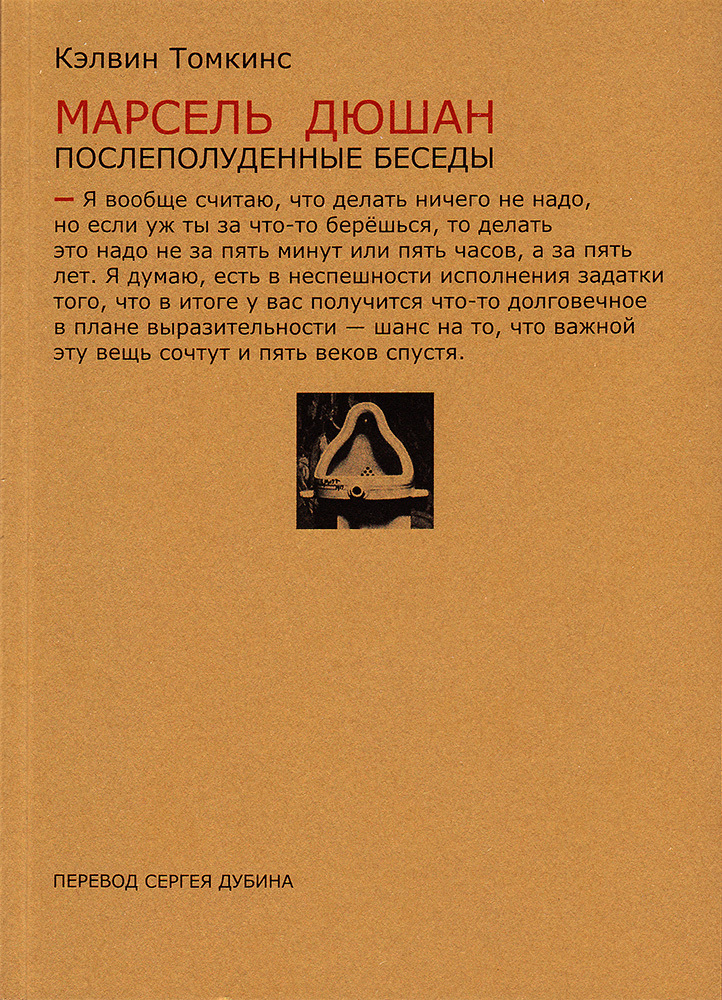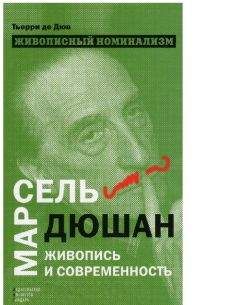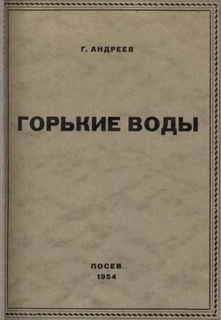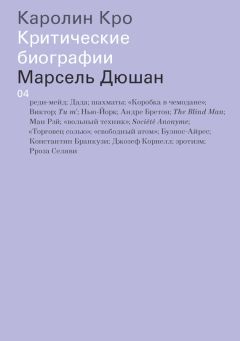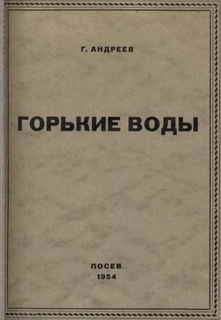забавы ради. Никаких намерений серьёзно это дело развивать. Здесь, в 1916-м, 1917-м, 1918-м, я много играл в шахматном клубе Маршалла, на 4-й стрит или где-то в тех краях, близ Вашингтон-сквер. Просиживал там часов до трёх утра и добирался потом подвесным метро домой, на 67-ю стрит. Наверное, тогда и закралась мысль, что я мог бы играть по-настоящему, – помню даже, у Маршалла участвовал в матче против другого клуба. Ещё потом, в 1918-м, я отправился на девять месяцев в Буэнос-Айрес и там тоже записался в клуб, ночи напролёт читал, учился премудростям игры. Так что, вернувшись в Нью-Йорк году в 1920-м или 1921-м, я уже более или менее плотно занимался шахматами. Вообще для членства в клубе надо штудировать литературу, подтянуться до нужного уровня просто, чтобы тебя не подняли на смех. Через всё это я и прошёл. Ну, а потом уже приходят амбиции, хочется стать чемпионом мира или ещё чего-нибудь. Разумеется, ничего такого у меня не вышло, но пробовать я не перестал и лет двадцать довольно серьёзно всем этим занимался. Играл на нескольких чемпионатах Франции. Конечно, никаким чемпионом я не стал, но энтузиастом – да. И около 1940 года я, наконец, понял, что пытаться уже смысла нет.
КТ: То есть Вы насовсем ушли из шахмат?
МД: Нет, скорее я ушёл в матчи по переписке. Там против тебя играют человек двенадцать. Тебе отправляют открытку с ходом, и надо ответить в течение двух суток. Каждый день получаешь по такой открытке и начинаешь прикидывать, как ответить. Занимает такой турнир до полутора лет. На три турнира у меня ушло четыре с половиной года. Я не находил себе места – ведь только и делаешь, что ждёшь открытки и готовишь свой ход, поскольку за просроченный ответ штрафовали. Полный идиотизм! (Смеётся.) Всё это длилось с 1930-го по 1935 год. Под конец я зарёкся вообще когда-нибудь связываться с шахматами по переписке.
КТ: А выиграть-то хоть один из этих турниров получилось?
МД: По-моему, за пять лет такой работы я заработал десять дойчмарок призовых. Выиграл один или два турнира и получил приз в десять марок. Глупость какая.
КТ: Сдаётся, Вы больше времени уделяли шахматам, чем искусству. Просто интересно, почему Вы сочли для себя возможным принять серьёзность шахматного мира – но не могли примириться с преувеличенной серьёзностью мира искусства?
МД: Да, но, понимаете, шахматы в таком виде уже превращаются в настоящее соревнование, один на один. Вы с соперником меряетесь силой разума. Это законченная форма – нет всяких причудливых выводов, как в искусстве, где за картиной следует череда самых разных рассуждений и заключений. Тут всё ясно. Изумительный пример картезианства. И настолько изобретательный, что картезианством поначалу даже не выглядит. Все те восхитительные комбинации, которые придумывают игроки, становятся картезианскими лишь после того, как вам их разъяснят – иными словами, вы даже не подозреваете, что они возможны. Но, стоит их растолковать, загадка исчезает: только чистое логическое заключение, опровергнуть его просто нельзя. В искусстве отношение совершенно иное. Возможно, искусство и шахматы мне так нравились, потому что – как тип отношений – были прямой противоположностью друг друга и тем самым друг друга дополняли. И я находился на равном удалении от обоих этих полюсов. Не знаю, я сейчас предлагаю Вам объяснения, которые раньше мне самому никогда в голову не приходили. В конце концов, Вы ведь не можете объяснить, почему дышите.

Дюшан со своими любимыми шахматами. 1952. Фото Элиота Элисофона для журнала Life
КТ: Да, но дух соревнования присущ и искусству. Я убеждён, какие-то художники видят в других своих прямых конкурентов.
МД: Мне это кажется такой глупостью! Никакого соперничества быть не должно. Ведь бороться, кроме денег, не за что. Это лишь вариант скрытой зависти, Вам не кажется?
КТ: Наверное, кажется. Я не сильно разбираюсь в шахматах. Но критики обычно…
МД: Да и в шахматах тоже особенно денег не водилось.
КТ: Нет?
МД: Никаких денег. Вы можете играть на профессиональном уровне, но выживают лишь очень, очень сильные шахматисты. Даже в России нет чистых профессионалов. Они все там работают на стороне – и это при том, что правительство в России их поддерживает. Тут же власти полностью игнорируют шахматы. Никакой поддержки. Американская федерация сидит без гроша. И те, кто проигрывает, остаются ни с чем.
КТ: А в шахматах возможен личный стиль – подобно тому, о чём Вы говорите в искусстве?
МД: О да, разумеется. Есть разные школы, романтики, например, – и даже гипермодернисты. Забавное такое название… И новые школы противостоят старым. Но, в конечном итоге, это всё чисто умственные размышления, большой опасности разложения деньгами тут нет. А вот искусство сегодня очевидно испорчено деньгами, не так ли? Испорчено или усовершенствовано? Не знаю. (Смеётся.)
КТ: Сейчас Вы играете так же часто, как в 1940-х?
МД: Нет, я больше не играю. Способность хорошо играть с возрастом ослабевает, знаете ли. Даже чемпионы не дотягивают до былого уровня. Играют лет до 60–65, и потом всё.
КТ: Если вернуться к искусству, у Вас были настоящие друзья-художники?
МД: Настоящих – нет, никогда. У нас прекрасные отношения, несомненно, но близких связей нет. Одно время Пикабиа был таким другом, единственным даже другом, году в 1910-м, 1911-м и 1912-м. Я никогда особенно не привязываюсь к людям, не верю в задушевные беседы. Хотя мы с Вами вот уже сколько часов разговариваем! Но не верьте тому, что я говорю.
КТ: Тогда сейчас самое подходящее время спросить Вас о Вашем прошлогоднем интервью журналу Show, где Вы назвали нынешний период самой низкой точкой в развитии искусства.
МД: Ну, собственно, там нет высшего и низшего, но, боюсь, наше дорогое столетие не будет особенно в чести веков эдак через пять. В сравнении с девятнадцатым, например, его оценят где-то на уровне восемнадцатого. Восемнадцатый век считался фривольной формой искусства, легковесной, более или менее декоративной. Двадцатый я бы не назвал декоративным, далеко нет, но какой-то прочности конституции в нём нет. Искусство создаётся очень скоропортящимися средствами. Используются никудышные пигменты – причём всеми; я сам ими пользовался. Так что довольно скоро они просто испарятся. Опять же, краска всё время шелушится, и картины приходится постоянно реставрировать и подлатывать. И реставраторы, разумеется, отчасти разрушают их, перебарщивая с таким латанием. Когда краска отшелушивается, чешуйки надо подклеивать, а это изменяет картину. Даже моё «Стекло» [17] – вещь бренная, оно легко бьётся, хотя трещинам и можно