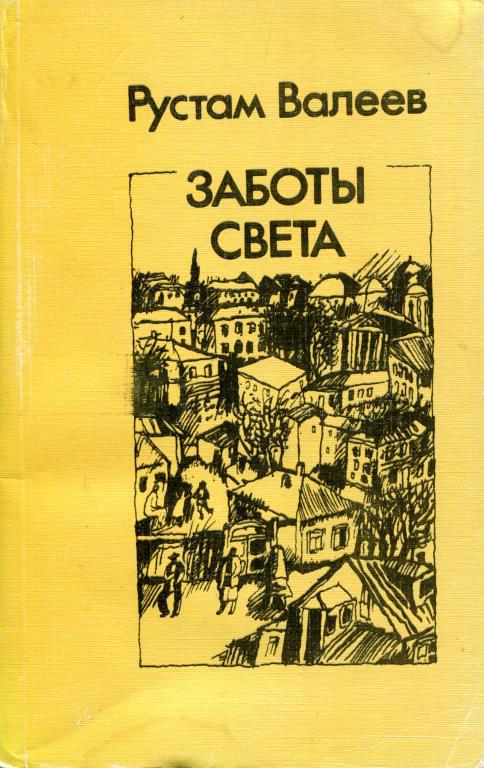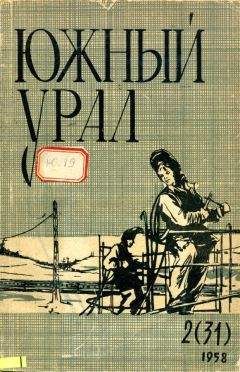чаю. Но, знаешь, я хочу тебе кое-что сказать. Ну! — толкнула его в плечо. — Ну! — повторила озорным, обещающим голосом и ласково заглянула ему в глаза.
Он ухмыльнулся, шагнул было за ней, но потом огляделся, до крайности изумленный, и забормотал:
— Да ведь день, ей-богу! И ни одного кустика. Вот уж приспичило бабе.
Однако она взяла его руку, потянула смеясь:
— Идем же, идем!
Они отошли за дерево, и женщина что-то говорила ему, а он смеялся и тоже что-то ей говорил.
И опять шли до темноты, женщина ступала рядом с повозкой и глядела на своего ребенка, а он лежал с закрытыми глазами и дышал с присвистом, как дышит надорвавшийся мужик. Вечером, на привале, женщина подошла к Габдулле и сказала негромко:
— Он умер.
И отошла. И делала свое дело: собирала хворост, разводила огонь, ставила на него казан, кормила девочек и их отца. Потом она сказала мужу:
— Ложись спи. Спи, — повторила она, мягко ему улыбнувшись.
Он послушно кивнул и пошел к повозке, лег возле нее, накрывшись зипуном, и тут же уснул.
Утром Габдуллу разбудили его крики:
— Я спрашиваю, почему его, а не этих дармоедок!.. Ведь их трое, а он был единственный… Старый слепец… там, на небе… он почему-то не взял этих дармоедок, а взял моего сына! — Мамадыш стоял перед женой и кричал ей в лицо. Она молчала, едва шевеля спекшимися губами. — Эй, пошла вон, пошла, говорю, с дороги!
И женщина покорно ступила в сторону.
Глаза Мамадыша жестко уставились на девочек, те молча стояли и держались за руки, привычно пережидая вспышку отцова гнева.
— Вот так и стойте! — приказал он девочкам. — И не вздумайте убегать. — Он бросился к повозке, вырвал из вороха тряпья свое ружье и, вернувшись на прежнее место, прицелился. — П-пах! — крикнул он и сделал движение, точно стволом что-то отбросил в сторону. — П-пах! — И отбросил. — П-пах! — Тут он выронил деревянное свое ружье и, мучительно кривясь лицом, телом, поглаживая плечо, к которому он приставлял приклад, пошел было к повозке, но обернулся, увидел девочек, стоявших там, где они и стояли. — А-а! — закричал он с ужасом. — Вы видите? Он их не взял… я собственными руками, вы же видели, собственными руками… а вот они, вот же стоят!..
На берегу озера выкопали могилу, завернули обмытое в озере тельце ребенка в отцову рубаху и положили в нишу, вырытую в стенке могилы. Нишу прикрыли камышом, яму засыпали и сверху обложили пластами дерна. Дервиш прочитал заупокойную молитву. Мамадыш и его жена дали старику положенную садаку — по две медных монеты, больше не могли они дать.
— Однако… нам еще далеко ехать. Ну! — Мужичонка дернул вожжами и повел лошадку через густые заросли, держа направление к дороге. За повозкой пошла его жена, за нею, взявшись за руки, посеменили девочки.
Навстречу стали попадаться арбы. Огромные колеса, огромные быки, качающие огромное ярмо. На арбах — жители хуторов, недавние переселенцы.
— А может быть, вам не надо так далеко ехать, — сказал Габдулла, — может быть, остановиться на кустанайских залежах?
Мамадыш не ответил, но через минуту заговорил свое:
— Едут, едут люди… никому не хочется умирать раньше срока. Мой дед говаривал: человеку нужна подвижность, встряхнитесь и подумайте, почему это народ не умирает. У него отнимают землю, пищу, покушаются на его веру, а он живет. Почему? Потому что он не потерял подвижности. Двигаться, двигаться надо, так говаривал мой дед…
Горизонт покрывался красноватой дымкой, а потом взошел месяц, и серебристо-призрачный свет потек по ковылям. Они все шли. В балках и на прудах лягушки заводили свои дребезжащие трели, в болотах жутковатым уханьем начинала охоту выпь.
— Тпру-у, сивый. Я вам открою, вы люди божьи, колдуны вы, колдуны, — приговаривая так, мужичонка подошел к повозке и стал развязывать веревки, стягивающие сундук. Он вынул из-под рубахи ключ на шнурке и отомкнул им замок. — Глядите, вот она, моя машина! — Он вынимал и тут же клал обратно какие-то трубки, угольники, пружины и болты. Были здесь шкивы, масленки и даже примус. — Видали? На нефти работает. Сильная машина. Ею хоть лес пили, поливай сад-огород. Или установишь на мельнице — зерно молоть. Вот какая это машина! — Он замкнул сундук на замок и опять стал обкручивать веревками. — Приедем, где землица хорошая, распашем, забросаем семенами, огородов насадим. А машину, как только приедем, я смажу и покамест припрячу. — Его худое лицо морщилось, как высохшая кожа мертвой ящерицы, глаза — ночного зверька, и только и было в нем человеческого — выражение счастливых, безумных надежд.
Бедный Мамадыш, он даже не знал, что никакой машины нет, есть какие-то железки да примус. Лучше бы им вернуться в свою деревню.
В ту ночь Габдулла и дервиш решили, что наутро пойдут своим путем.
Расставаясь, Габдулла все же решил поговорить с женщиной.
— Разве вы не видите, что он безумный?
Женщина, не веря, покачала головой.
— Но ведь это понятно каждому, кто поговорит с ним!
— А я? — сказала она. — Разве я не безумная, если живу еще на свете? Если иду с ним неизвестно куда и неведомо зачем? Если я зачала ребенка и надеюсь, что на этот раз бог пошлет нам мальчика?
Он был безумен во всем, но в одном он не был безумным: в том, что хотел жить и иметь сыновей в этой бедной, трудной и несправедливой жизни. В том, что, изнуренный до крайности, он искал не райского утешения, а движения жизни, ее продолжения, и если даже не ему суждено, это желание не пропадет в тысячах человеческих сыновьях… И юноша знал, что из его горькой памяти Мамадыш не уйдет никогда.
Всю ночь ему снилась сухая жаркая равнина, блуждание и блеск озер в красноватом тумане зноя.
Перед самым утром он встал и вышел на террасу, в белесый влажный холодок, и увидел, как бледнеют звезды и гаснут одна за одной. Но долго низко над горизонтом колюче, упорно горела Чулпан, утренница, совсем уже одна.
Он умылся из кувшина и, расстелив на террасе коврик, стал молиться. Потом закурил. И, подхваченный дурманом, вдруг заснул прямо на полу.
Разбудил его Тахави, придурковатый, тихий малый, деверь Газизы. Принес записку от сестры, теплые еще пирожки, завернутые в кухонное полотенце, и плоскую фарфоровую тарелочку, которую протянул Габдулле с кроткой, суеверной почтительностью. И тут же убежал.
На дне тарелочки коричневой вязью вырисовывались слова молитвы. Усмехнувшись, Габдулла поднес к лицу тарелочку: пахло подгоревшим молоком. Милая Газиза, она ходила к жене приходского муллы, и та нашептала над