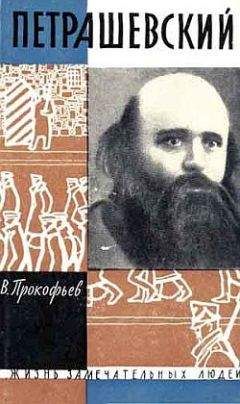Милютину не нужно было рыться в своде законов. 803-я и 804-я статьи устава о ссыльных гласят, что ссыльнопоселенцы «за маловажные преступления и проступки наказываются розгами до 100 ударов, или употребляются в общественные работы сроком до месяца, или могут быть сданы в завод, арестантскую рабочую роту сроком до года». Было в этих статьях сказано и о тюремном заключении сроком не более месяца.
Корсаков распорядился.
16 января 1864 года Петрашевского разбудил знакомый стук в дверь. Так умеют стучать только полицейские и жандармы. Он привык к этим частым, наглым ударам сапогами. Пусть отобьют ноги. Петрашевский не спешил отпирать.
Исправляющий должность полицмейстера Вахрушев не стал делать обыска. Ему хотелось спать. А потом в предписании было сказано — «доставить в острог».
Смотритель принял арестанта с рук на руки. Он был знаком с Петрашевский и даже встречался «в: обществе».
Но вот беда. В остроге нет свободных одиночек, и господина Петрашевского придется поместить в общей камере с уголовниками.
Нет, нет, это ненадолго. Смотритель уверен: недоразумение выяснится на днях.
Петрашевский сделал вид, что удручен и даже напуган перспективой сидеть в одной камере с «кобылкой».
— Господня смотритель, я не ожидал такого пассажа, и мне будет неловко в этаком платье отбывать с уголовниками. Надеюсь, вы поверите моему честному слову. Я отправлюсь к себе на квартиру., переоденусь, захвачу необходимейшие вещи и буду в вашем распоряжении.
Смотритель колебался. Хотя у него нет основания не верить Петрашевскому, да к тому же ом возмущен действиями Корсакова и Замятина.
— Извольте! Жду вас через час!
Темно, скользко! Нога то и дело срываются с деревянного тротуара.
Хотя бы огонек мелькнул где-либо.
Упал. Очки… Они где-то здесь, рядом. Петрашевский зажигает спячку за спичкой. Угольники желтоватого отсвета на снегу. А время идет.
Очки хрустнули под ногами. Целы, только немного прогнулись дужки.
Сальный фонарь затрепыхал отсветом где-то далеко-далеко.
Петрашевский бежал, не разбирая дороги. Спотыкался о тумбы, предательски выглядывавшие из-под снега, налетал на сугробы. Ему было жарко.
Мороз же легонько поскрипывал бревнами домов.
«Почта».
Заспанный телеграфист никак не может понять, чего хочет этот толстый, потный господин. Ему нужно отдышаться. Перо скачет в руках и сажает чернильные кляксы.
Михаил Васильевич хорошо знает, что телеграмма на имя управляющего Третьим отделением не освободит его от острога. Но какой переполох она наделает в доме генерал-губернатора! Они думают, что он смирился, что его, как клячу, предназначенную на живодерню, уже не может подстегнуть удар кнута.
Нет!
Острога не миновать. Но никто никогда не услышит от него униженной просьбы. Никто не увидит его поднятых кверху рук.
Пока уймется дрожь, он может немного подумать.
Наверное, этот взлохмаченный после сна телеграфист считает его сумасшедшим. Нет, он еще не сошел с ума и, назло своим гонителям, не сойдет.
Им дай только повод — и тогда «желтый дом». Разве не на его глазах Чаадаева объявили сумасшедшим?
Но минуло уже полчаса. А он должен еще забежать к своему поверенному.
«Прошу защиты!» Петрашевскому некогда рассуждать, как звучат эти слова телеграммы. Его незаконно заключили, под стражу — это главное. Сенат и суд должны решить вопрос о правах, возвращенных ему волей государя.
Денег едва хватило, чтобы расплатиться.
Поверенный пошлет вторую телеграмму — члену военного совета и инспектору войск генералу Лутковскому. Лутковский интересовался участью Петрашевского. Пусть знает, как Корсаков обращается с дворянами и вымещает свою личную неприязнь.
Смотритель острога не удивился, когда перед ним вновь предстал Петрашевский. Почему только Михаил Васильевич не переменил платья, как хотел? Да и вещей он не видит.
Петрашевский ничего не ответил.
— Тюрьма страшна только по первому разу. А я привык. Уж который год отбываю — счет потерял!
Арестант глядит хмуро, исподлобья и не понимает, чего от него хочет этот бородатый кряжистый заключенный. Писать прошения, требовать, чтобы состоялся новый суд? Ну, нет. Суды и судья всюду одинаковы. «Карман сух, так и судья глух». И законы — что дышло…
Петрашевского это заявление немного коробит, хотя не признать его вековую правоту он не может. Много ему помогла законность, когда он добивался пересмотра процесса 1849 года? А ведь тогда-то законы были нарушены самым беспардонным образом.
Но Петрашевский не отступает от узника, берется ему помочь, поражает его цитированием наизусть чуть ли не половины кодекса уголовных преступлений. Потом оставляет в покое.
Из тюрьмы можно досадить начальству новым прошением. И легче всего это сделать, адресуясь в Енисейский губернский тюремный комитет. Его засадили в эту камеру вместе с уголовной «кобылкой» для наказания. Ничего, он расскажет и членам тюремного комитета, каковы у нас в России начальники. Использовать права, предоставленные законом, для обличения тех же законов и их проводников в жизнь. Вот его идефикс законности. Не все это понимают именно так.
Проходили дни, недели. «Дерзкое прошение» в тюремный комитет давно отправлено. Петрашевского все время треплет лихорадка и гложут невеселые мысли. Его, конечно, вышлют из Красноярска. А между тем он нашел в этом городе «несколько прекрасных личностей», возможность заниматься литературным трудом. И опять надоевшее село Шушенское. Теперь ему известно, что «Колокол» заступился за ссыльного. Герцен припечатал «прогрессивного генерал-губернатора». «Неужели прогрессивный генерал-губернатор не понимает, что вообще теснить сосланных гнусно, но теснить политических сосланных времен Николая, т. е. невинных — преступно. Если же он не может с ним ужиться, то благороднее было бы, кажется нам, просить о переводе Петрашевского в Западную Сибирь, на Кавказ или куда-нибудь».
Месяц подходил к концу. Однажды утром Петрашевского разбудил угрюмый заключенный, протянул бумагу и молча отошел в сторону. Прошение, прошение!
Написано очень коряво, но с сердцем. Малограмотный, искалеченный тюрьмою узник обвиняет судей!
Петрашевский вспомнил разыгравшуюся три года назад в Иркутске трагедию, когда по проискам Муравьева и его петербургских доброжелателей был устроен суд над судьями Беклемишева и других убийц Неклюдова. Хотя, к позору Муравьева, вмешавшийся прокурор отменил дикие постановления этой расправы и даже назначил Ольдекопа прокурором в Казань. Но праведные судьи успели отсидеть в тюрьме десять месяцев, а убийцы пользовались свободой. Их даже повысили в чинах, Беклемишев уехал из Иркутска принимать чуть ли не губернаторский пост.