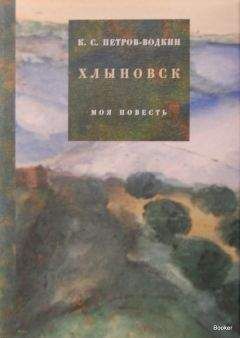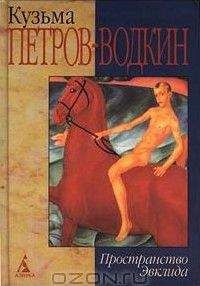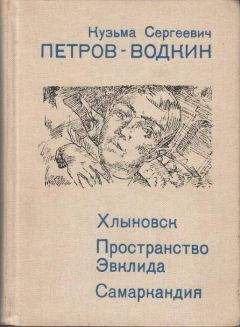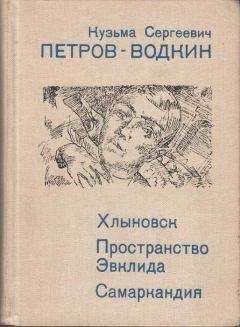я познакомился с подсевшим к моему столику в кафе авантюристом.
Разговор между нами зашел о сенсационной смерти некоей «международной хищницы», как об этом заглавили рубрики некоторых газет, с присущей развязностью вульгаризируя событие.
Мой знакомый уверил меня, что в газетах изложение всей этой драмы сплошь ложно, что погибшая была замечательного героизма и такта женщина… В заключение он вынул из бумажника фотографический снимок и показал мне; я едва не вскрикнул от неожиданности: снимок был сделан с моей римской картины, изображавшей Анжелику.
— Вот это она и есть! — сказал авантюрист.
Глава двадцать вторая
Везувий
Перегруженный Римом, я выбрался в Неаполь. Ночью, подъезжая к заливу, увидел я в окно вагона огненный столб в небе. Пассажиры моего отделения бросились к окнам, на разных языках произнося имя вулкана. Везувий был в действии, и от его огненной шапки некуда было скрыться в городе. Это был «он», без имени, — «он» работает. Все события на кратере моментально становились известны всем. Бюллетень его состояния занимал мысли неаполитанцев и врывался во все их дела. Толчки его взрывов вспышками озаряли гору ночью; днем черным веером пепла и камней высоко взбрасывалась в небо дымная полоса и тянулась вдоль горизонта, растягиваемая ветром.
О Неаполе всегда говорят с придыханием, чтоб подчеркнуть особенную красивость Неаполитанского залива, с силуэтами островов, Везувия и Соммы и всего развернувшегося амфитеатром полуострова. Сюда включают и живописность быта, с тенорами-мандолинистами, с рыбаками и с экзотикой женских типов и костюмов…
Все это очень сбивчиво и запутанно и подчинено привычке. Ведь почему-то не мог я начать, например, писать этюды Неаполя, да и вообще в Италии не подымалась у меня рука на зарисовку ее красот. В том-то и дело, что не из всего принятого считать красивым извлечешь сюжет для живописи. Красива, очевидно, вообще необычность, отклонение от нормы, то есть получается парадокс, уродство. В геологии приняты две группы сил, образующих нашу планету, меняющих ее облик: одна — теллурическая, представляющая деятельность самой земли, энергию ее собственных запасов, и вторая группа — сидерическая — от влияния и действия небесных тел, главным образом нашего солнца и луны, на землю. И мне думается, когда мы видим резко выраженной борьбу этих сил, перевес одной из них над другой, — это нам нравится, это нас бодрит, делает отважными, а следовательно, и продуктивными. И тем это ценнее, чем более глубокую причину, вызвавшую это явление, мы улавливаем.
Я не знаю из всех виденных мною животных форм более противной, вызывающей непомерную гадливость своим видом, как спрут-осьминог. Даже глаз этого гада извращен, как и весь его аппарат. Все в нем подчинено пищеварению и полу, и ни одного у него намека на органы движения, если не считать движением болтающиеся щупальцы, да и те скорее только хватательного значения. Чтоб возместить в себе недостатки передвижения, осьминог пользуется глазами, в которых он развил чудовищную силу гипноза, связывающего волю жертвы, предназначенной для его пищеварения. Отсюда я вывел, что предмет или вид, не отправляющий функций движения, представляется уродливым.
Сказать, что у спрута отсутствует движение, нельзя. Однажды мне удалось видеть его в возбуждении. Чудовище выбрасывало и свертывало поочередно свои хоботы, быстро вращалось и стрекало от стены к стене аквариума: была ли это игра или своеобразное ухаживание за спрутихой, или ему хотелось есть, или вспомнил он морское дно и задыхался в стеклянной камере, но для меня его движение казалось движением несовершенным и куцым. Помню, когда впервые увидел я слона, у меня была неловкость от его длинного носа и была некоторая жалость от беззащитности этого доброго древнего животного, покрытого древесиною кожи, потерявшего шею и эластичность конечностей. Даже бивни, прочно и крепко слаженные с костяком черепа, при его неповоротливости казались излишней декоративной роскошью. У спрута и этого не было: весь мягкий и бесформенный, он производил еще более жалкое впечатление.

Что же такое красота? Очевидно, признаки роста и усовершенствования, наблюдаемые в предметах-явлениях, есть красота; застой в развитии, атавизм, словом, признаки, понижающие остроту наших восприятий, есть уродство.
Но тогда что же такое тип? Ведь тип есть резко выраженное проявление все равно каких черт: слабости или силы, очаровательная беззащитность младенца, недолговечность и хрупкость бабочки и могучая устойчивость гранитного утеса.
Фра Беато Анджелико и Микеланджело, Джованни Беллини и Леонардо да Винчи одинаково активны своими типовыми проявлениями.
Ясный, тихий денек и грозная буря.
Неаполитанский аквариум ввел меня в морскую жизнь. С разбегами от огнедышащей горы и от танагр, мраморов и бронз музея навещал я жителей океанских глубин. Примерял всячески человека к другим произведениям земли.
Мысли об эстетике интересовали меня в Неаполе больше попутно. Земля здесь была живая. Я такой земли еще не видел. На Флегрейских полях, на колеблющейся горячей почве Сольфатары странно себя чувствуешь. Игрушечные серные вулканчики на ее кратере уже вскрывают непокой земли. Храм Сераписа [270] говорит отметинами на нем о бывших земных волнениях; гроты с кипящей водой говорят о непрекращении этих волнений; Везувий уже грозит ими. Не веришь мечтательной бирюзе Неаполитанского залива. Не веришь рыбачьим судам, беззаботно скользящим на его глади, не веришь песням и улыбкам на его побережье. Все как бы между прочим, в ожидании чего-то главного. Сказочный Капри с его голубым гротом, где торчащий камень обселили насекомыми люди, крохотно имитирующие земную почвенную жизнь, с виллами инвалидов, эмигрантов и не очень знатных князьков, действует игрушечно и бездельно. Вознести бы над островком одну стеклянную крышу и устроить бы на нем музей людской скученности.
Жертвы работы Соммы-Везувия [271], кладбища-города, расположены на побережье залива. Это то, что известно людям за близкий исторический период. Мое же представление, возникшее на основании земных профилей и береговых очертаний, говорит мне, что останки человеческой жизни схоронены и далеко в море, да и на самом материке наслоения «культурных ям» и городищ должны быть очень длинными и многоэтажными. Везувий, рядом с Соммой, показывает своими очертаниями новую и недавнюю постройку огня.
Да и вообще после Помпеи представилась мне земля многоэтажной, с пластами эпох геологических и археологических.
Не знаю, как другим, но мне Помпея доставила маловеселое зрелище. Этот небольшой городок, рафинированный средствами развлечений для богатых римлян, до конца разоблачает упадочность греко-римской обстановочной цивилизации: мелочность, торгашество и сластолюбие, приспособленные для угасающей чувственности. Натурализм, протокольность изобразительности, местное значение сюжета и событий, зафиксированных в росписях, у подножия работающего вулкана произвели на меня потрясающее впечатление людской дряблости. Природа, как