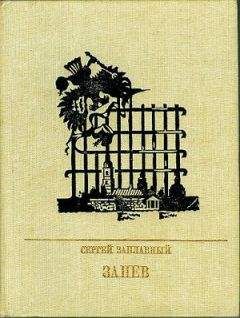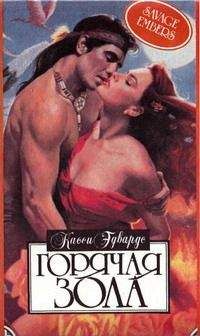Не знал Юлий Осипович и того, что Зволянский согласится принять его мать с подношениями и в конце концов смилостивится, размашисто начертает на поданном ему прошении: «Отпустить на три дня для свидания с семьей».
Но уже на следующий день с подобными прошениями в департамент полиции обратились генерал-лейтенант Тахтарев, титулярный советник Агринский, приват-доцент Романенко, землемер-таксатор Сибилев, вдова директора народных училищ Ульянова и несколько узников. Опасаясь, что дело может принять дурной оборот, Зволянский поспешил дать «свидание с семьей» всем осужденным.
Тяжело растворилась обитая железом калитка. Острый, перемешанный со снегом ветер ударил Петра, развернул, будто тряпичную куклу, и несколько шагов протащил по Шпалерной. Сверху безмолвно взирал Дом предварительного заключения. Его окна были похожи на глаза исполинского чудовища, затянутые бельмами.
Четырнадцать месяцев Петр мечтал об этом часе. Он представлялся ему непременно светлым, наполненным музыкой движения и голосами друзей. Где все это? Никто не встречал Петра. Значит, некому. Даже Резанцсва не пришла. Наверное, не знает…
И Петр ощутил гнетущее чувство одиночества. Надо же такому случиться: три дня свободы, дарованные судьбой, сделались вдруг ненужными, даже нелепыми.
Зачерпнув из серого холмика горсть снега, Петр растер им лицо и торопливо зашагал прочь от ненавистного дома.
На Литейном проспекте ветер дул в спину, помогая идти. От красочных витрин, от извозчиков зарябило в глазах. Проспект есть проспект: в любую погоду здесь шумно, толкотно.
Вдруг Петру показалось, что кто-то украдкою следует за ним. Неужели охранка пустила филера? Если так, шпику несдобровать. Петру терять нечего — дальше якутских земель не сошлют…
Сладкое чувство близкого отмщения сделало тело быстрым и ловким. Петр нырнул в одну из ближайших подворотен и затаился. Едва в темном просвете под аркой появилась крадущаяся фигура — он рванулся к ней, зажал рот, притиснул к стене…
Это была женщина. Петр почувствовал округлость груди, плеч. Еще он почувствовал волнующий запах трав, такой знакомый и такой забытый. Руки сами разомкнулись, губы выдохнули:
— Антося?!
— Я-а-а… — чуть слышно донеслось в ответ. Приспособившиеся к полутьме глаза начали различать дорогие черты: прямую линию носа, крутые дуги бровей, прядь волос, окрашенную отблесками идущего издалека света.
Несколько долгих минут они стояли так, не в силах двинуться. Не удивительно ли? Через два года встретиться — и вновь на Литейном проспекте. Почти на том же самом месте…
— Откуда ты? — опомнился наконец Петр.
— Оттуда, — тихонько рассмеялась она. — Потом узнаешь. Сейчас надо ехать. Ко мне… К нам…
— А где… мы живем?
— На Верейской. Возле вокзала.
Свобода вновь обрела смысл, сделалась драгоценностью, каждая крупинка которой — невосполнима…
В темной полуподвальной комнатке на Верейской Антонина проворно растопила чугунную печь, согрела воду.
— Раздевайся, Петрусь, — скомандовала она. — Мыть тебя буду!
Петр исполнял все ее указы, не задумываясь. Впервые за долгое время ему было хорошо и покойно: как бывало в родном доме в невозвратные поры детства и отрочества.
Борщ и гороховый кисель с маслом Антонина сварила загодя. К ним она добавила купленные на возах домашние колбасы, пряники, кедровые орехи. В довершение вынула бутылку зубровки.
— Хочешь, чтобы я спился с кругу? — спросил Петр, все еще не веря в реальность происходящего.
— Праздник ведь, — напомнила Антонина. — Со встречей!
— Боюсь, Антося. На мой хмель хоть воды взлей, пьян будешь. И без того голова зигзагом идет.
— Тогда ну ее, пойлу эту! Без нее обойдемся…
Пока Петр ел, Антонина поведала ему, как обиделась, перестав получать от него известия; как писала дяде своему, Кузьме Ивановичу Никитину, чтобы сходил по указанному адресу справиться, проживает ли там Запорожец; как испугалась, узнав, что Петр арестован; как минувшей осенью прибыла в Петербург и стала обивать пороги в жандармском управлении; как ее выгнали, сказав, что у Запорожца уже имеется невеста, да и той — ввиду буйных выходок арестанта — запрещено с ним видеться…
— Как же ты узнала, что меня выпускают?
— Дядя сказал. Он разговор барыни Александры Михайловны слышал. С ихним приемышем.
Значит, Калмыкова и Струве в курсе дел…
— А у меня вон что есть, — Антонина достала из цветасто разрисованного кувшина свернутые трубочками листки и с таинственным видом протянула Петру: — Сама собрала!
Петр развернул их. Да это же прокламации «Союза борьбы…»!
В одной из них говорилось:
«Братья, товарищи, как тяжело видеть, что мы так нвзко стоим в своем развитии. Большинство из нас даже нe имеет понятия о том, что такое значит „социалист“. Людей, которых называют „социалистами“ и „политическими преступниками“, мы готовы предать поруганию, осмеять и даже уничтожить, потому что считаем их своими врагами. Правда ли, товарищи, что эти люди — наши враги? Присмотримся к ним поближе, и мы, наверное, увидим, что они вовсе не так страшны, как это нам кажется. Это люди, которых мы поносим и предаем в руки наших врагов за какую-то ожидаемую и неполучаемую or них благодарность, отдают свою жизнь для нашей же пользы. Вы сами, товарищи, знаете, что нас грабит хозяин-фабрикант или заводчик, сторону которого держит правительство. Социалисты — это те люди, которые стремятся к освобождению угнетенного рабочего народа из-под ярма капиталистов-хозяев. Называют же их политическими или государственными преступниками потому, что они идут против целей нашего варварского правительства…»
Судя по всему, это то самое воззвание, о котором на одной из прогулок говорил Цедербаум. Его написал Иван Бабушкин, сразу же после декабрьских арестов.
А вот обращение к «Царскому правительству»:
«В настоящем 1896 году русское правительство вот уже два раза обращалось к публике с сообщением о борьбе рабочих против фабрикантов. В других государствах такие сообщения не в редкость, — там не прячут того, что происходит в государстве, и газеты свободно печатают известия о стачках. Но в России правительство пуще огня боится огласки фабричных порядков и происшествий: оно запретило писать в газетах о стачках, оно запретило фабричным инспекторам печатать свои отчеты, оно даже перестало разбирать дела о стачках в обыкновенных судах, открытых для публики, — одним словом, оно приняло все меры, чтобы сохранить в строгой тайне все, что делается на фабриках и среди рабочих. И вдруг все эти полицейские ухищрения разлетаются как мыльный пузырь, — и правительство само вьшуждено открыто говорить о том, что рабочие ведут борьбу с фабрикантами…»